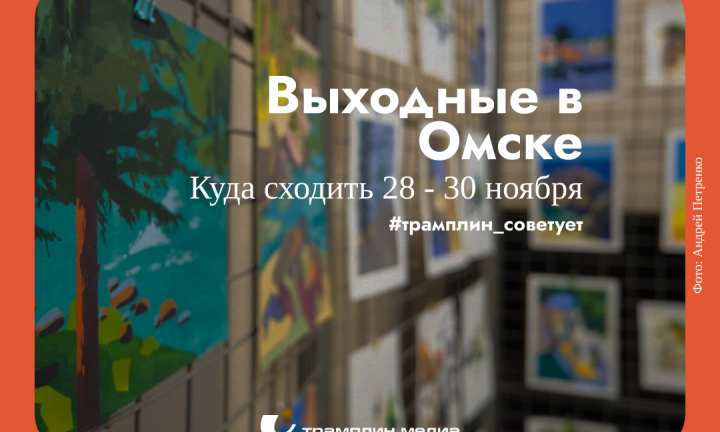Дата публикации: 13.10.2025
Несмотря на октябрьский холод и первый снег, на бульваре Леонида Мартынова было тесно и шумно. Пар от самоваров клубился над рядами, под звуки гармони и балалайки заканчивалась юбилейная, двадцатая Покровская ярмарка. Три дня – с 10 по 12 октября – Омск дышал традициями, ремёслами, песнями и ароматами старинной кухни. Прошлое не выглядело музейным: оно двигалось, пело, жарилось, резалось, вышивалось и подавалось горячим на деревянных блюдцах.
Этнодискотека по-омски
На главной сцене собирается круг. Гармонист заигрывает, и с первым тактом начинает двигаться вся площадка. «Это балуха!» – с улыбкой объявляет руководитель русского клуба «Пой-Пляши» Антонина Северинова. В кругу – студенты, молодые родители, пенсионеры, дети. Улыбаются, спотыкаются, быстро подхватывают шаг. Никакой дистанции, здесь танцуют все.

Балуха – уникальное явление, сохранившееся только в Омской области. Когда-то это была форма крестьянского досуга, сродни вечёркам, но без присмотра старших. Молодёжь собиралась после работы, надевала лучшие наряды, девушки вплетали в косы ленты, и все ехали в соседнюю деревню – танцевать, знакомиться, выбирать себе пару.
«Балуха – это не про индивидуальность, а про общность. Не когда я, выскочка, а когда мы одно целое. Если кто-то выпадает, остальные его подхватывают. При этом суть балух нельзя понять, просто наблюдая, нужно обязательно участвовать для удовольствия, для общения с другими людьми. Как я обычно говорю, народом придумано для народа», – делится Антонина Северинова.

Термин «балуха» впервые зафиксировали этнографы в Называевском районе лишь в начале 2000-х. До этого крестьяне говорили «вечёрки» или «танцы». Сейчас это название уже стало этнокультурным брендом Называевского района. И всё же балуха особенная: дюжина простых парно-бытовых танцев, сменяющих друг друга под наигрыш гармошки. Танец не требует подготовки, достаточно одного взгляда, чтобы влиться в круг.
Участники клуба «Пой-Пляши» называют балуху «этнодискотекой». Они проводят такие вечёрки на фольклорных фестивалях и конкурсах.

«В паре делаем шаг друг от друга, потом друг к другу. Встали в вальсовое положение. Повернулись. И отправили девку к впереди стоящему. Танцуем до тех пор, пока не вернёмся в свою пару. А зеваки, которые просто смотрят, скидываются рублем, так что встаем в круг танцевать», – призывает этнохореограф.
И действительно, у балухи нет зрителей: все вовлечены, все участники. Краковяк, полька, кадриль, и темп все ускоряется. То, что нужно в холодные октябрьские дни.

«Приходишь после работы на танцы, и всё, через пять минут усталость уходит. Танцы – это энергия, музыка, русская культура, которую мы часто забываем. А ведь у наших предков есть чему поучиться: уважению, гармонии, логике жизни. Всё просто: поработал, поплясал, поел. Так и должно быть», – делятся впечатлениями участники клуба «Пой-Пляши», супружеская пара Олег и Ирина Фомины.
По ярмарочным рядам как по живому музею
От сцены, где всё ещё звенит гармонь, поток людей течёт вдоль рядов. Каждый столик как отдельная музейная экспозиция, только без табличек «руками не трогать». Тут пахнет свежей краской и лаком, там – дымом, воском и хлебом. Люди спрашивают, торгуются.
Семейная мастерская «Жар-птица» приехала в Омск из Миасса. На их прилавке можно найти ажурные шкатулки, кареты, фигурные рамы, вырезанные лазером из фанеры по собственным проектам.

«Чужие проекты мы не используем. Пока свой проект не придумаем, не приступаем к работе. У нас семейная мастерская: я администратор, муж и дочь – художники и проектировщики. Просто делаем то, что можем и что нам самим интересно», – рассказывает Ирина Конева.
В палатке рядом – аккуратные деревянные матрёшки, расписанные миниатюрной кистью. Художница Валентина Снегирёва работает с ними уже тридцать два года.
«Отец выточил первую матрёшку, принёс домой, сказал, попробуй раскрасить. Так и началось. Теперь у меня сертификат художественного совета по народным промыслам. Это, конечно, моральное удовольствие», – говорит она.

Чуть дальше – прилавок с ватными игрушками. Они выглядят так, будто вытащены из старинных ёлочных коробок: пастушки, Баба-Яга, снегурочка. Татьяна Петрук делает их по технологии столетней давности. На одну игрушку уходит полторы-две недели.
«Сначала на проволочный каркас наматывается слой ваты с нитками. Смазываю клейстером, потом идёт просушка. А уже потом создаётся образ. Личико рисуется, создаются шубка, валенки. Все слои из ваты. Мама когда-то попросила сделать игрушку в подарок, и вот уже три года не могу остановиться. Это моё успокоение. Когда лепишь игрушку, забываешь обо всём», – делится Татьяна Петрук.

Чуть поодаль стоит стенд с яркими поясами и косоворотками. Дмитрий Крамович рассказывает, что начал с вопроса: «Кто мои предки?» Так пришёл к изучению традиционной одежды и узоров.
«Мы берём музейные образцы, оцифровываем, перерисовываем и делаем вышивку на современном оборудовании. Это семейное дело: я рисую, жена шьёт. Сейчас люди снова начинают интересоваться своими корнями. Даже молодые хотят иметь хотя бы одну рубаху или пояс. Для них это не костюм, а часть повседневного гардероба», – делится наблюдениями Дмитрий.

Ярмарочные ряды оказываются своеобразным срезом современной народной культуры. Ремесло уже не хранится «под стеклом», оно живёт в руках тех, кто делает, и в глазах тех, кто смотрит.
Чалдонская кухня: вкус, который возвращает домой
Но всё же самое оживлённое место ярмарки – там, где дымит кухня. На дегустационной площадке идёт маленький гастрономический спектакль. Сухой творог крошат в капустный отвар, на углях жарятся блины «сердешные» из гречневой муки.
Виктория Багринцева, заместитель директора Государственного центра народного творчества Омской области, руководитель Центра нематериального этнокультурного достояния, рассказывает, что в этом году ярмарка впервые делает ставку на гастрономию и особенно на чалдонскую кухню, ставшую новым этнокультурным брендом Омской области.

«Чалдоны – самоназвание русских сибиряков. Они всегда гордо говорили: “Я чалдон, я родчий, я коренной сибиряк”. Это люди, чьи предки жили на этой земле веками. И их кухня – удивительный консервативный пласт культуры, сохранивший древние приёмы и вкусы. Мы знакомим гостей с рецептами, записанными в экспедициях по нашей области».
Некоторые из этих рецептов звучат почти как легенды. Например, «постные щи» из села Крестики варятся из квашеной капусты и сушёного творога, или «блины сердешные» – из гречневой муки, потому что гречка «для сердца полезная». Эти и другие рецепты можно найти в книге рецептов «Чалдонская кухня», ставшей итогом этнографической экспедиции по Омской области.

«Мы наблюдаем, что сборник “Чалдонская кухня” стал популярен у шеф-поваров. Они берут старинные рецепты и создают авторские версии. И нам это нравится. Традиция живёт, когда её пробуют», – говорит Багринцева.
Шеф омского ресторана София Комарова показывает свой вариант щей с сушёным творогом и блинов с припёком с луком и яйцом. Вокруг её стенда – очередь. Кто-то снимает на телефон, кто-то просит добавку.
«Решили заехать на ярмарку, а здесь угощают. Как же на ярмарке не покушать вкусно? Щи мне понравились, кисленькие, наваристые, очень интересное сочетание с сушёным творогом. И гречневые блины тоже попробовал первый раз, тоже вкусные», – делится впечатлениями Андрей.

Покровская ярмарка в Омске давно перестала быть просто торговой площадкой. Это сцена, лаборатория, музей и кухня одновременно. Здесь можно купить, попробовать, станцевать, но главное – увидеть, как живая традиция продолжает себя.
Текст и фото: Алексей Могильников