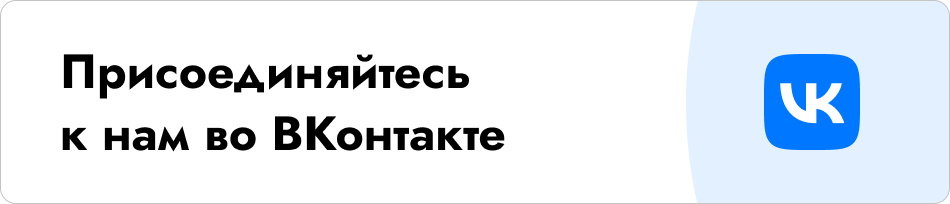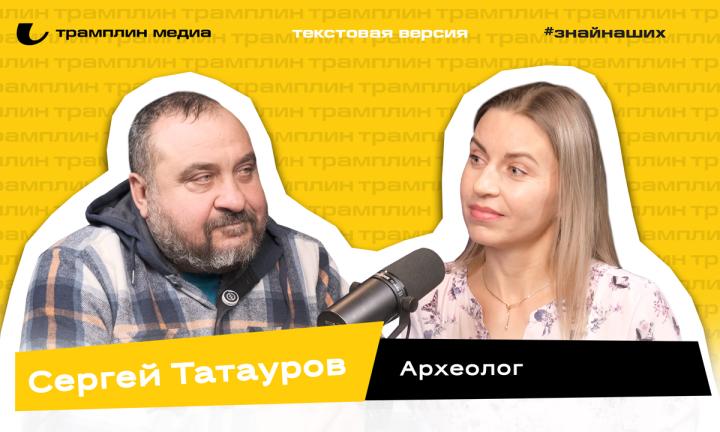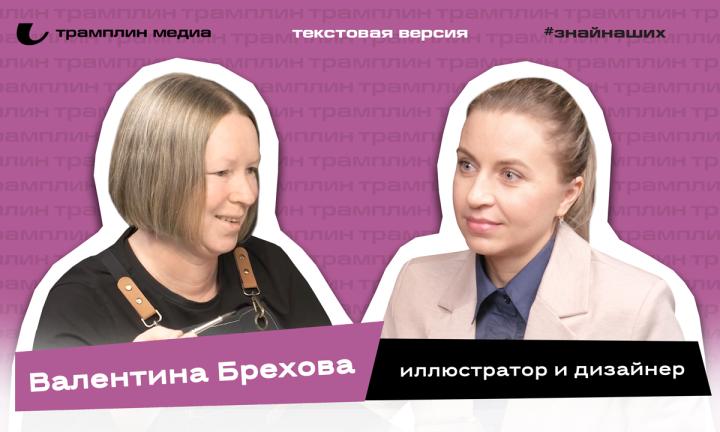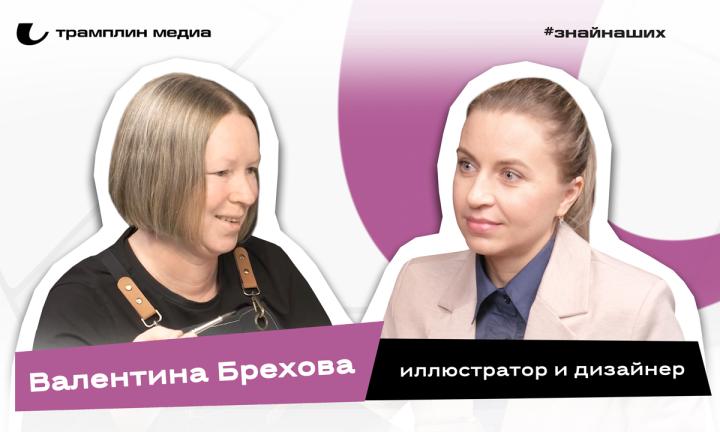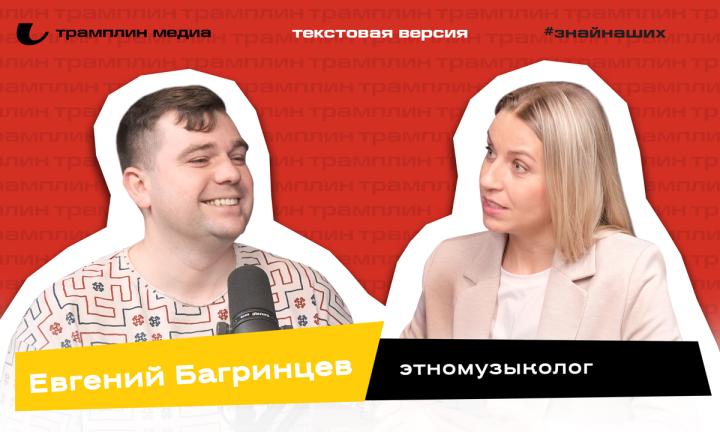Дата публикации: 13.07.2023
Для тех, кто любит читать, текстовая версия подкаста «Знай наших!» с Ольгой Горобчук, балетмейстером и постановщиком современного танца.
– Это Трамплин Медиа с подкастом «Знай наших!». Сегодня у нас совершенно фантастический, потрясающий человек, не знаю, как ещё до сих пор в Омске – Ольга Горобчук. Я сейчас буду долго читать ваши регалии: директор Центра современной хореографии в Омске, художественный руководитель, балетмейстер, постановщик театра танца «нОга», преподаватель Лаборатории современного театра «Ателье-Т», старший преподаватель кафедры режиссуры и хореографии Омского университета имени Достоевского, неоднократный номинант Национальной премии «Золотая маска», обладатель Премии Евгения Панфилова, куратор резиденции хореографов при поддержке фонда Прохорова на арт-площадке «Станция» (Кострома) и педагог-эксперт DanceHelp (Москва).
Потрясающая история!
Скажите мне пожалуйста – такой первый к вам вопрос – в школе отличницей были?
– Я окончила школу с золотой медалью.
– Я не ошиблась.
– Но я не очень была усидчива в этом плане, потому что я всё равно занималась хореографией.
– То есть просто вот так всё легко.
– Нет. Наверное, гены. И бог мне дал возможность... У меня память очень хорошая – зрительная и слуховая. Если я что-то увидела или услышала, я уже это не забуду.
– Перфекционизм с детства или приобретённое?
– Я думаю, что с детства.
– Прямо черта характера?
– Да.
– А как это в детстве проявлялось, например?
– Я пытаюсь сейчас себя в те свои годы вспомнить. Я занималась даже не просто в одном каком-то коллективе, помимо детской школы искусств № 3, которую я окончила, где были замечательные педагоги, которые очень много дали мне в профессии, в дальнейшей жизни – я ещё параллельно занималась спортивными бальными танцами. А это абсолютно другое, даже чисто принцип движения для тела. Я думаю, что всё это моё тело набирало для того, чтобы выйти вот на этот уровень.
– Потрясающе. С чего началось всё, с какого времени?
– В детском саду... Мне просто повезло, я думаю, что так жизнь сложилась. Это фатализм, как я говорю. Я верю в это...
– Предназначение?
– Да, предназначение. Кто-то ведёт. Каждый должен заниматься тем, что ему дано.
– От чего он получает радость, да?
– Да, конечно. Иначе можно было бы давно уже лапки сложить. В детском саду у нас была воспитательница – видимо, всю жизнь она мечтала быть хореографом, работать с детьми, но вот так её жизнь сложилась, что она... Татьяна Семёновна её звали, я до сих пор помню. Она ставила у нас номера на том уровне, на котором она могла, и на каком уровне мы были – нам 3, 4, 5 лет, что мы могли. И с этого возраста началось моё знакомство с хореографией. Родители шили костюмы, мы танцевали – мы не просто пели стихи и ходили в парах, мы прямо танцевали, у меня есть куча фотографий – тогда видео не очень было доступно, в 1984 году.
– Ну да, конечно.
– Она меня туда подтолкнула. Ну а потом уже начались более серьёзные танцы. Меня отвели на бальные танцы, потом параллельно я поступила в школу искусств № 3.
– О том, что танцы будут профессией, сразу узнали?
– Я разбирала тетради – и у меня есть тетрадь 1991 года, это мне было 11 лет, и там уже балет, я от руки написала «балет», это так смешно, конечно, но, видимо, тогда я уже понимала, что буду заниматься крупной формой. И на самом деле я крупную форму больше люблю и больше к ней тяготею.
– Что такое крупная форма – поясните для зрителей.
– Это спектакли, это миниатюры, которые идут от 10 минут и далее.
– Интересно. Родители как относились к вашему выбору?
– Когда я поступала?
– Да.
– Так скажем, что они просто это приняли.
– Без вопросов?
– С вопросами, потому что всё равно хореография для многих и сейчас не является профессией.
– Да, мы только что говорили о том, что у девочки родители с трудом приняли, папа до сих пор возражает. А девочка пошла, потому что очень любит танцевать.
Вот есть такая цитата: «Если говорить о более абстрактных постановках, смыслы улавливает действительно не каждый. Возьмём, к примеру, отзывы зрителей: среди них есть благодарные, а есть недовольные, в соцсетях люди пишут, что я обязана что-то кому-то объяснять, но я считаю, что ничего никому не обязана разжёвывать».
Расскажите об этом.
– Там финальное было – «Я люблю умного зрителя». По-моему, даже статья так называлась!
– Да, и есть ещё такая цитата, что «я люблю умного зрителя».
– Мне кажется – как художник я должна находиться в диалоге со зрителем. Не в прямом диалоге, это может быть тактильный диалог, телесная трансформация каких-то образов. И мне очень хочется, чтобы зритель не пришёл на спектакль, открыл либретто, прочитал всё, что там написано, и посмотрел – вот ему иллюстрировали всё, что он прочитал. Я хочу, чтобы он задумался – и чаще всего, сейчас всё равно какой-то уровень мастерства вырос – и ты какие-то задачи вкладываешь, какую-то проблему, может быть, какую-то суть, и зритель на выходе из зала – ещё продолжает думать о том, рефлексировать от увиденного. И для кого-то – я сейчас буду утрировать – для кого-то это тарелка с рыбой, а для кого-то это философское глубокое познание себя. Кто-то начинает в своей жизни по-другому разбираться и рассматривать её.
– Танец для вас – ещё и философия?
– Конечно. Знаете, танец – один из самых сложных видов искусств, я не буду разбирать все направления хореографического искусства, но вот смотрите: если певец – грубо скажем, понятно, что это не про профессиональное – он может спеть под фонограмму. Танцовщик никогда не сможет станцевать так, голограмма не исполнит за него. В кино – можно снять, намонтировать, очень много технологий. А мы находимся на сцене здесь и сейчас.
– Да. В моменте.
– В моменте, в потоке. В этом невербальном диалоге со зрителем.
– Как вы понимаете: ребята танцуют, они в моменте, они наслаждаются зрительской энергетикой – вот этот обмен – а вы в это время где?
– С художником по свету. Я, наверное, практически все свои спектакли не видела от и до. Я вижу их в классе, вижу в репетиционной работе, когда идёт пошив костюмов, изготовление декораций. На генеральной репетиции я тоже их вижу, последние нюансы какие-то. Но когда идёт спектакль... У меня должны меняться картинки вовремя, вот это должно пойти сюда, вот это – туда, это чисто такая техническая работа. Потому что никто, кроме меня, в принципе не знает, как это должно выглядеть в итоге.
– Вы же должны после выступления дать обратную связь своим ребятам, да? Как это происходит?
– Вы знаете, у нас такой коллектив, он складывается годами, понятно, что кто-то уходит, кто-то приходит, но есть танцовщики, которые уже 12 лет танцуют в театре, кто очень давно со мной. Это просто чувствуют все друг друга и понимают. И каждый понимает, это всё-таки профессиональное танцевание. Это не когда подошёл к ребёнку и сказал – ты плохо станцевал или что-то не доделал. Они чувствуют это сами, где у них был провал, они взрослые люди. Зритель может этого не понять, но иногда сам танцовщик понимает, что сегодня я не так как-то...
– Не дожал.
– Да, не так это сделал. Либо был какой-то выплеск, что, допустим, сольный кусок или какой-то момент, фрагмент спектакля он вообще станцевал так, как никогда не танцевал. Что-то произошло такое, какой-то катарсис случился на сцене – это тоже. Потому что все творческие люди, и вот этот подъём... Мы все очень «метеозависимы».
– Ну да. Я подумала сейчас о философии – и у меня такая аналогия возникла. О древних боевых искусствах говорят, что это философия. Получается, что у вас танце – ваше видение – это более глубокая вещь, связанная с философией. Получается, что вы не просто педагог и хореограф, но и мастер, учитель, в том духовном смысле. Ребята же должны тоже понимать, какие смыслы вы вкладываете. Зрителю можно не объяснять, а ребятам, наверное, надо объяснять?
– Естественно. Но вообще, допустим, если я работаю со своим театром, с труппой театра танца «нОга» – потому что сейчас я работаю с разными труппами, с разными театрами – конечно, мне легче работать со своими.
– Они уже знают?
– Как бы громко ни звучало, это родные люди. Там ты поворачиваешь голову, и они понимают, что ты хочешь или чего не хочешь. Конечно, сначала, когда прихожу, какая-то у меня в голове возникла идея – и я её сразу же не рассказываю. Потому что эта идея просто может поменяться, у нас была такая история. А потом в постановочном процессе начинает собираться какой-то лексический рисунок, что-то я пробую, какие-то элементы, какое-то пространственное решение – и вот там уже начинает что-то рождаться, и я уже сама с собой договорилась, это очень важно. И вот тогда я начинаю им рассказывать то, что мы делаем. И потом уже завершаем весь процесс.
Было у нас такое... Не знаю, пандемия повлияла или как, после пандемии мы вышли с труппой и начали готовиться к постановке спектакля, ходить на репетиции, было разведено очень много музыкального материала – и просто в какой-то момент я пришла домой, что-то во мне переключилось, у меня что-то сошлось в голове, и я пришла на следующий день: мы ставим новый спектакль, он будет называться «Лоси выходят в город». И я сейчас понимаю, что это было единственно правильное решение, верное. Мы весь тот материал, который уже был сделан, просто вот так подвинули – не возвращались к нему вообще. Ни к этой музыке, ни к материалу сделанному. Мы всё начали сначала.
– Эта идея – как вспышка?
– Вспышка. У каждого художника они по-своему рождаются. Я не сижу, не рисую, не пишу. В детстве смотрю, открываю – господи, я это писала! Но это тогда. У меня просто образы, я вижу образы, образы – иногда мой мозг просто не выключается, иногда засыпаю и просто вижу эти картинки.
– Визуально?
– Да, визуально. Я вообще визуал – простраиваю картинку так, чтобы глазу было приятно.
– Я тоже визуал, понимаю. Говорят, у вас есть собственная система обучения.
– Да. Как всё это возникло. Театр – уже 23-й сезон, а Центр современной хореографии в этом году – 20-й сезон у нас, юбилейный у детей. Чтобы содержать театр, нужно было, чтобы он развивался, нужно было откуда-то брать деньги.
– Финансы, понятно.
– Как это всё начиналось: естественно, самый лёгкий на тот момент способ, как мне казалось, – открыть школу. Но когда мы открыли школу, я поняла, что не могу просто приходить и зарабатывать деньги. Я не могу просто так этим детям ничего не давать. В итоге это переросло в профессиональное образование, потому что за 20 лет наши дети уже выпустились, уже кто-то является руководителем, кто-то преподаёт в Москве в высших учебных заведениях – это всё наши выпускники Центра современной хореографии. Те, кто связывает свою жизнь с профессией. Кто-то учится... Большинство из них – в профессии. Пришлось построить эту систему, плюс мы стали готовить профессиональных танцовщиков для работы в театре. Всё это сложилось, потому что я не смогла просто ходить мимо.
– Скучно же – просто так ходить.
– Кому-то нравится. Кого-то устраивает. А я посмотрела – и когда смотришь в глаза детей, то понимаешь, что ты им должен отдать всё.
– Выгорание случается?
– Это сейчас такая популярная тема – выгорание.
– Когда вы говорите, что надо отдать всё, то можно исчерпать ресурс, и потом требуется длительное восстановление.
– Отдыхаю я – все мои друзья уже знают – три дня. Я уехала куда-то, на третий день мне пишут: ну что, домой? Всё, да. Мне хватает трёх дней после чего-то.
– Уединения?
– Да, да. Должна побыть одна. Вот просто лежать, ничего не делать. Никакой музыки, ничего.
– Ничего даже не смотрите?
– Нет. Я не смотрю дома хореографию. Я включаю политику, она меня очень сильно отвлекает. Я не вникаю во всё, понимаю, что это другая жизнь – и никакой хореографии, никаких танцев.
– Понятно. Это такой способ переключения.
– Да.
– Вы жёсткий педагог?
– Очень.
– Насколько?
– Наверное, по «шкале 100» – 102. Дело в том, что здесь наш российский и русский менталитет: мы всё делаем из-под палки или всё делаем в последний момент. И «авось», и так далее, и так далее.
– Но вы-то не такая.
– Я не такая, и очень многие не такие. Это же идёт от семьи, воспитания – как родители воспитывают ребёнка, которого приводят. Дисциплина. Потом ребёнок воспитывает – сначала родители приводят детей, а потом дети водят родителей на занятия. Это всё система. Конечно, когда они маленькие, нет какой-то супержёсткости, но когда они пубертат, переходный возраст, то всё, начинается. Немножечко иногда сравниваю центр с концлагерем. Потому что у наших детей каникулы – только июль и август, полноценные, и мы их стараемся не трогать, это их месяцы. А весь календарный год – 10 месяцев, наш творческий год, с 1 сентября по 30 июня – они ходят на репетиции, у них нет ни юбилеев, ни дней рождения, ни поездок. Те, кто работает – да. Те, кто хотят результат – нет. Это вообще никак не приветствуется.
– Дети как воспринимают вашу жёсткость? Жёсткость в чём проявляется: в требовательности, в эмоциональном каком-то давлении – словами, вербально либо визуально – пришла Ольга, махнула головой, всё уже знают?
– В Центре сейчас есть такое: сейчас Ольга Александровна придёт... Но это же наработалось годами, это же было не с первого года. Сейчас есть такое, да. Авторитет какой-то я приобрела, надеюсь. Я захожу – и всё, дети выпрямляются. Это что-то для молодого педагога недостижимое, этот уровень воздействия на людей. Но опять же, мы сейчас готовимся к юбилейному концерту, я живу с детьми в классе – и по-всякому, вот по-всякому, правда. Они же дети, они устают, они живые. А где-то ты видишь, что он не устал, а просто что-то надоело.
– Ленится.
– Ленится, да. И ты должен подстегнуть. Но всегда мои дети знают, что класс – это класс. До занятий, после занятий они дети. И мы их любим и любого разорвём на части за своих детей. Но в классе – всё. Это работа. И я всегда родителям говорю, что дети работают, что на данный момент это такая форма, такой вид их деятельности, но это та же работа, на которую ходят взрослые люди, только и вот эти маленькие дети – ходят тоже на свою работу.
– Когда есть такое сильное влияние на людей, понимаешь, насколько велика у тебя ответственность. Вас никогда не пугала эта ответственность, эта степень вашего влияния?
– Я могу сказать, что она до сих пор меня пугает, и была затронута тема выгорания... Я бы назвала это даже не выгоранием, а я не знаю, как это назвать. Иногда мне хочется просто всё бросить. Я не могу сказать, что я выгорела, что не могу зайти в класс. Просто вот надоело, надоело быть всегда в форме, всегда...
– Всегда маяком.
– Да. Хочется быть просто девочкой, чтобы от тебя ничего не требовали.
– На ручки. Возьмите меня на ручки. Как вы подбираете себе людей в команду, педагогов? У вас должны быть, по моему представлению, очень высокие требования.
– Очень высокие требования. К нам невозможно попасть по резюме. Все, кто присылали, – я никого не беру.
– Не читаете резюме?
– Я просто говорю о том, что у меня всегда есть педагогический состав. И если кто-то уходит в декрет или что-то ещё – я сама ищу себе педагога. Но дело в том, что у меня есть возможность, я работаю на кафедре и вижу талантливых или не талантливых студентов. И так как я работаю с людьми, я научилась за это время понимать, у кого есть потенциал. Мне проще научить педагога, под свою систему подстроить, нежели переучивать.
– Ну да, это понятно. Переучиваться труднее.
– Труднее, да. Я могу сделать хорошего педагога, вот это я точно могу сказать. Это уже выработанная система.
– А как вы себе эту систему педагогическую нарабатывали? Ваша первая профессиональная работа была какая? С чего начиналось?
– В 1997 году я окончила общеобразовательную школу и мне безумно повезло, у меня директор был – Канунников Сергей Николаевич, лицей № 143 – он меня без образования (я поступила на 1 курс университета) устроил в школу педагогом дополнительного образования, это были мои дети.
– Понятно, вот как это всё началось, сразу после школы.
– Да, сразу. Помимо того, когда я ещё в школе училась – я, уже учась в школе искусств, со своими же одноклассниками, одногруппниками ставила номера, мне давали возможность. Я давно ставлю. Я первый свой гонорар получила за номер в 15 лет, до университета было два года.
– Потрясающе.
– Это кошмар был, конечно. Не знаю, за что мне заплатили. Я вообще назад оглядываюсь, думаю: какой кошмар, какой кошмар.
– Я сейчас хотела спросить: когда вы оглядываетесь назад, вы помните себя двадцатилетней?
– Это ужас.
– Ужас?
– Мне вообще кажется, что в 25 я дура дурой была.
– Я согласна с вами, я тоже смотрю на свои – и тоже думаю: ну... да. Это нормально же.
– И система, наверное, росла тоже с этим со всем. Я поработала с разными детьми. С очень талантливыми отобранными детьми и вообще с абсолютно разными – с данными дети, без данных. И я понимаю, что в принципе научить можно любого ребёнка, просто уровень – он будет виден, это конечно. Но приравнять можно всех. Это понятно, что всё равно талантливый ребёнок... Иногда, знаете, – ребёнок, который работает, у которого есть характер, и ребёнок, который талантлив, но у него нет характера – выиграет тот ребёнок, у которого нет таланта и он работает. И в профессии останется этот ребёнок. К сожалению, это так в большинстве случаев.
– Да, наверное, здесь есть некая ловушка, когда у человека, у ребёнка есть данные, ему кажется, что теперь всё легко будет – и всё. У вас отсев есть?
– У нас естественный отбор есть. Допустим, у нас набирается (набирался раньше) первый класс – 40 человек. Сейчас их 15. Это 7 класс. У нас были выпуски и 3 человека, и 5, и 8, и 10 были выпуски, всё зависит от года. И это реальный естественный отбор.
– Это понятно, конечно. Планка высокая, работать нужно много. Те, кто не может, просто сходят с дистанции, что называется.
– Конечно.
– Любопытная вещь: мы с вами два раза уже сегодня к спорту каким-то образом обращались. Вас ещё называют тренером, в этом есть что-то очень спортивное. Почему «тренер»?
– Я не знаю, почему меня называют тренером, мне вообще это безумно не нравится, потому что это – не спорт.
– Конечно.
– Это не спорт, нет. Мы педагоги, мы хореографы, мы балетмейстеры, но не «тренера». «Тренера» нас называют.
– Я думаю, что это от спортивных танцев, может быть, пошло?
– Нет, я думаю, что это родители в детстве просто занимались спортом. И это всё транслируется детям. «Наши тренера». Нет-нет. Мы детям говорим об этом.
– С родителями работаете?
– Да.
– Конфликты?
– По-разному. Потому что это человеческий фактор, его никто не отменял. И все же знают, как лучше.
– Конечно.
– Вот и всё. Я думаю, здесь это понятная история о том, что каждому надо, как ему надо, а так не бывает, это коллектив. И в первую очередь нужды коллектива должны ставиться на первое место.
– Есть у вас коллеги, которые вызывают у вас восхищение? Я даже не имею в виду Омск, я имею в виду в принципе Россию. Россия или кто-то за её пределами.
– Конечно, есть! Тоже есть люди-альтруисты, влюблённые в танец, которые женились и вышли замуж за хореографию. Я утрирую, конечно, но... Вот Андрей Разживин в Самаре. Очень много коллег. Екатерина Гурвич в Екатеринбурге. Катя, кстати, приезжает к нам, на Dance Festival садится всегда в жюри. Никита Харитонов, это педагог по народному сценическому танцу. И со многими из них мы дружим.
В Челябинске... Челябинский театр современного танца, там выделяются, естественно, тоже мои друзья, танцовщики.
– Чтобы стать номинантом на «Золотую маску» – что нужно?
– Работать.
– Работать. Всегда на все вопросы один ответ.
– Очень многие, наверное, не любят критику в свой адрес. Я не спорю никогда, я просто так вот слушаю, слушаю. Всегда говорю, что критики мне сами расскажут, о чём мой спектакль, иногда бесполезно им что-либо объяснять, у них всё равно своя точка зрения. И очень долго я всё это слушала, было обидно, естественно, но ты шёл в балетный класс и делал, и продолжал делать. В какой-то момент, когда всё-таки чаша терпения была переполнена, я решила, что я больше не буду отправлять спектакли – мы номинировались в первый раз. Потому что это не я отправила свой спектакль. Ну, потому что уже всё. Потому что Омск, современный танец. Отношение к Омску всё равно остаётся... Столицы.
– Понятно. А у вас какое отношение к Омску?
– Я патриот своего города.
– Никогда не хотелось уехать?
– Никогда. У меня была не одна возможность, и есть возможности, но у меня даже этой мысли не возникает. У меня есть такое в голове, что если все отсюда уедут – то что будет?
– Да, что будет.
– Здесь такие же люди, здесь такие же возможности. Я не знаю, но у меня нет этого в голове. Наверное, с этим надо как-то жить, вынашивать эту идею.
– Когда была пандемия, как вы пережили это?
– Очень тяжело.
– Да, это тяжёлое время было.
– Первые две недели – это было несказанное счастье!
– Счастье, да. Я помню, я выезжала утром – мы работали на телевидении, нам разрешалось работать – и я выезжала утром и ехала по пустой дороге, за 15 минут доезжала. Но очень быстро кончилось это состояние.
– Две недели ты поспал, а потом ты начал понимать – в четырёх стенах для творческого человека – ну это смерть. Прямо мне казалось, что я сейчас сойду с ума. Вот буквально. Я довела себя до такого состояния, что был период, когда я не могла уснуть просто, потому что было уже такое психологическое состояние. И мы, закрыв глаза на все запреты, 1 июля вывели на улицу в Советский парк всех детей. У нас три филиала, и вывели весь театр. Мы за лето убили две пары кроссовок, мы делали всё, кроме партера, потому что это асфальт и земля. Но вообще – мы занимались прямо в полную ногу, с 1 июля. С 1 августа мы зашли в классы, которые у нас в коммерческой аренде, потому что на дополнительное образование ещё распространялся запрет. Всё, мы зашли в классы.
– Было ли это время для вас, скажем так, периодом кризиса?
– Да, безусловно. Но, наверное, я думаю, это всё не просто так для меня было – я рассталась с теми людьми, с которыми должна была расстаться.
– Сошли с дистанции?
– Я не знаю, как это объяснить, но думаю, что это просто слава богу, что такой период произошёл – может быть, у меня просто не хватало смелости.
– Решимости.
– Да, решимости. Потому что я всегда как будто несу ответственность за людей, с которыми работаю. И как бы пандемия немножко отсеяла. Правда, так стало хорошо! Я прямо дышала. Помню прекрасно этот вот год, который начался – он был и пандемийный 2020-й, творческий год вот этот учебный – прямо мы дышали. Было очень тяжело финансово, было очень много всевозможных – понятно – ситуаций, препон, испытаний. Но в плане творческом, в какой-то организации педагогического состава, состава театра – мы прямо дышали.
– Я знаю, что – высказывают – что ваши идеи, вашу хореографию воруют.
– Мы самые незащищённые в плане авторского права.
– А как зафиксировать это? И можно ли?
– На самом деле это бесполезная идея, уже даже выходили всевозможные подкасты и онлайны с юристами и со всеми – как? Ну да, ты можешь снять номер: я такого-то числа поставил этот номер, это мои костюмы... И куда ты с этим пойдёшь? Никуда. Люди могут взять твои костюмы, не взять хореографию – уже не плагиат. Но это плагиат, потому что ты сидишь, придумываешь. Либо люди возьмут номер, но другие костюмы, либо твой же номер станцуют под другую музыку. Понимаете, в чём дело? И ты ничего не можешь сделать. До определённого момента, до двадцати пяти, я очень сильно переживала, это прямо была для меня трагедия, потому что я понимала...
– Столько труда вложено, сил.
– Потому что это бессонные ночи, я сочиняю ночью, я ищу музыку ночью. Я «сова», для меня это естественное времяпровождение – неважно, во сколько мне вставать – или уже можно не ложиться. Я очень переживала, прямо вот очень. А потом в какой-то момент щёлкнуло – и я поняла, что копия никогда не будет лучше оригинала. И всё, я успокоилась. Конечно, это неприятно, но я спокойна.
– Вы когда-нибудь разговаривали с этими людьми?
– Конечно.
– И что в ответ?
– Ничего. «А чё такого?»
– «Чё такого», да.
– Была даже история о том, когда сюда в Омск – на международный фестиваль современного танца «Точка» приезжало международное жюри и экспертный совет, и на круглом столе председатель жюри, Ольга Николаевна Пона, сказала некоторым коллективам, что «хватит Олиным мозгом пользоваться». Это прямо было сказано. Притом даже я этого не знаю, это было на круглом столе – и просто сказали ребята, что Ольга Николаевна так сказала.
– Да, это трудно проконтролировать, конечно. Совершенно невозможно.
– Я лучше в балетном классе время проведу со своими детьми или театром, нежели я буду за всеми бегать и выслеживать.
– Оля, скажите, вы сейчас в принципе находитесь на очень высокой точке своих достижений, признания. Что впереди?
– Ой, у меня столько планов. Хочется всё успеть. Театр хочу, хочу стационарный театр.
– Со зданием, вы имеете в виду?
– Да. Хочу, чтобы у театра своя сцена была. Свой дом, так скажем. Потому что все эти годы мы...
– Кочуете?
– Да, мы не то чтобы кочуем, конечно. Наш дом это Областной молодёжный центр «Химик», и спасибо всем, кто нас терпит и держит, и помогает, потому что помощь, особенно в этом году, была! Просто могу до земли поклониться директору, Назарову Тимофею Александровичу, и замдиректора. Они так помогли нам в этом году, никто нам так не помог! Но всё равно они же – государственная структура, они помогают, как могут, но это не наш дом. У нас есть свой линолеум, мы его всё равно каждый раз раскатываем, каждый раз закатываем, перевозим куда-то, куда нужно. И декорации у нас хранятся в «кармане» техническом ОМЦ «Химик», потому что декорации на столько спектаклей, всё это нужно где-то хранить, костюмы и всё-всё-всё. Хочется, конечно, свой дом. И конечно, мечта о большом балетном классе, потому что все наши балетные классы – они немножко прямоугольные, а хочется большой-большой квадратный класс. Пространственный.
– С зеркалами.
– Нет, зеркала у нас прекрасные, а вот само помещение... Но это вот мечта такая.
– Я желаю вам, чтобы ваша мечта сбылась.
– Спасибо.
– Спасибо, что нашли время, пришли. Я знаю, что вы невероятно занятой человек. Спасибо большое.
– Спасибо.
Беседовала Елена Мельниченко