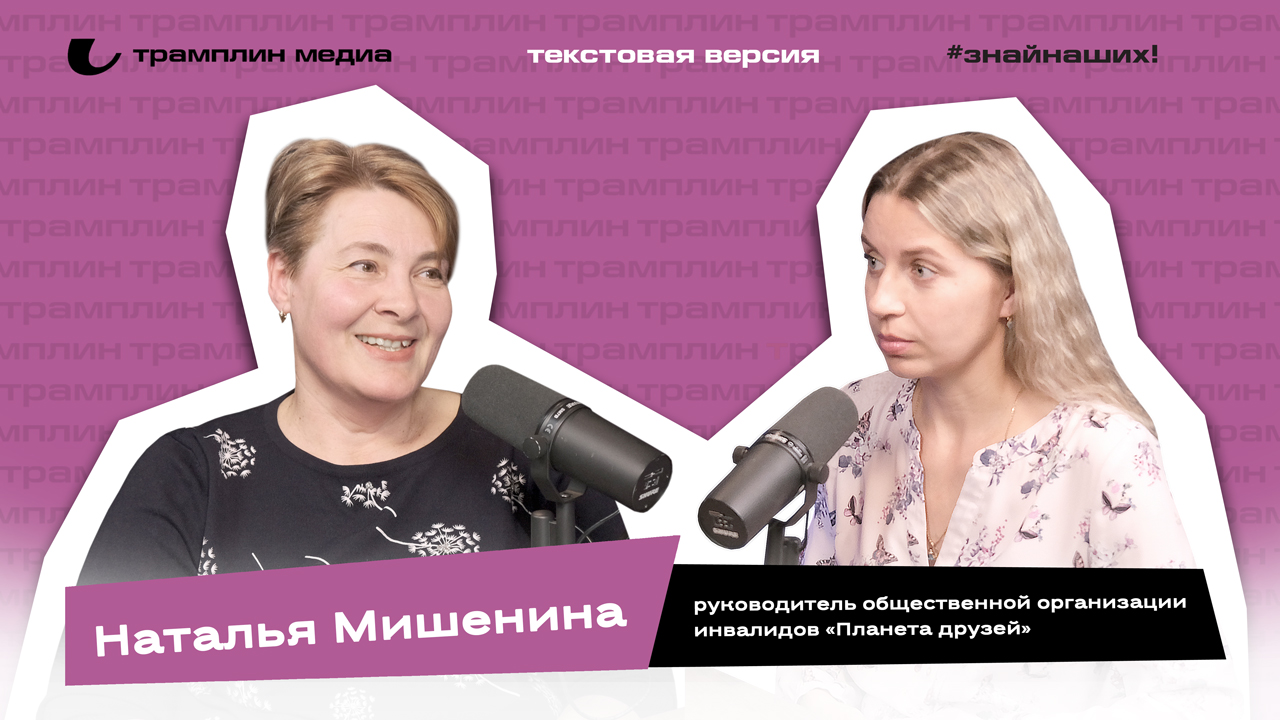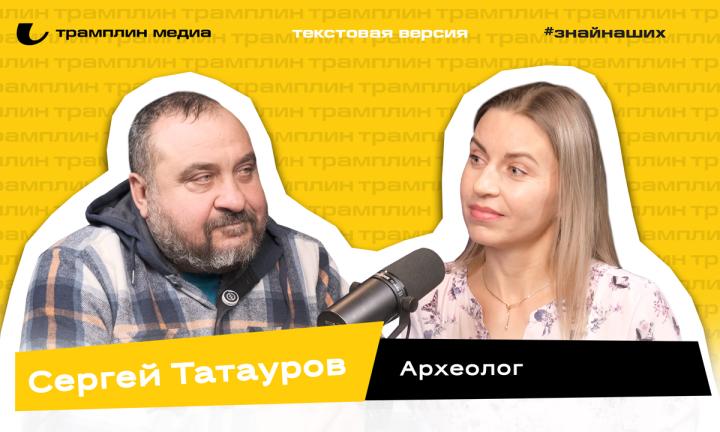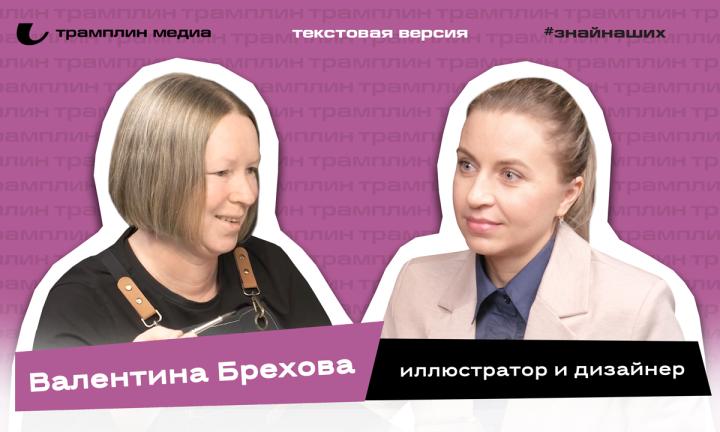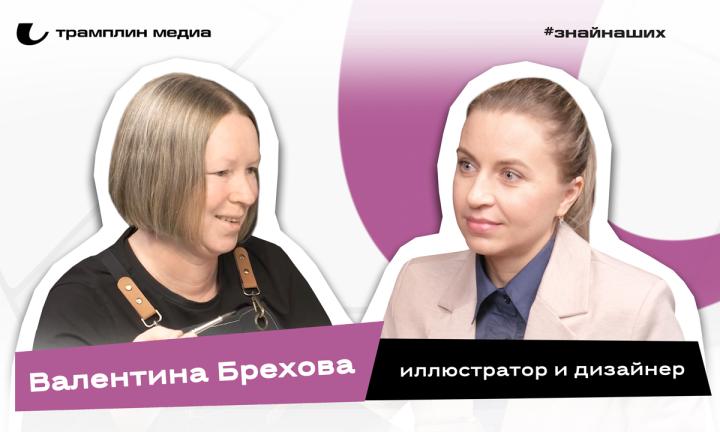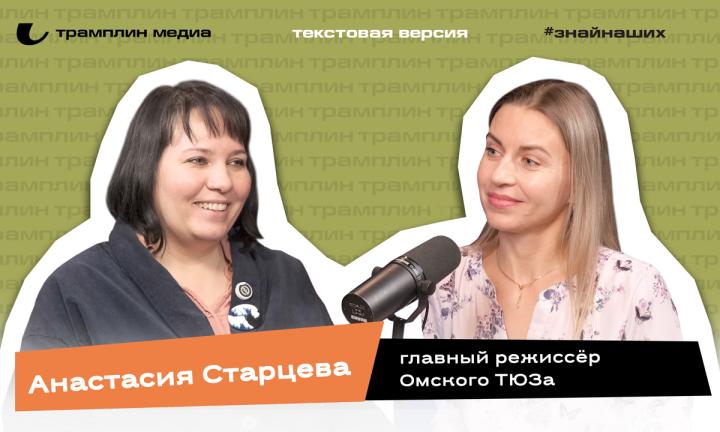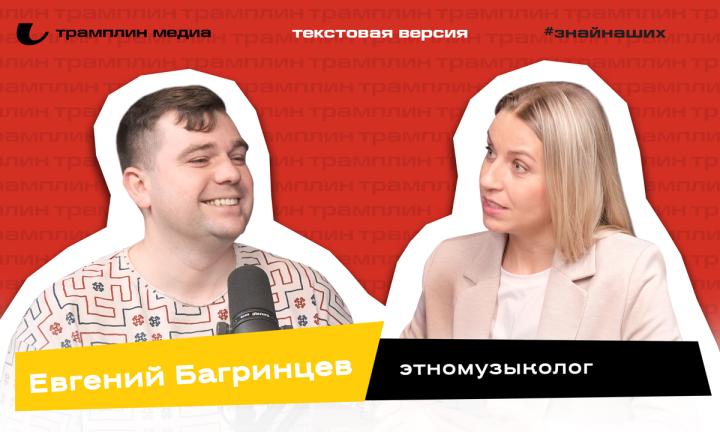Дата публикации: 17.05.2025
Для тех, кто любит читать, текстовая версия подкаста «Знай наших!» с руководителем общественной организации инвалидов «Планета друзей» Натальей Мишениной.
— Наталья Леонидовна, здравствуйте! Я бы хотела начать наш разговор с самых истоков создания «Планеты друзей». Я знаю, что идея такой организации появилась с рождением вашего особенного ребёнка. Почему так произошло: вы не нашли в тот момент помощи откуда-то, не знали, куда обратиться, или захотелось самой глубже копнуть и понять эту историю и уже со своим опытом прийти к другим, подать руку помощи?
— В принципе, в своём вопросе вы уже на многое ответили. Максим родился в 2003 году. На тот момент ещё не во всех домах у нас были Интернет и компьютеры. У меня Интернет и компьютер были только на работе. Он родился в июне — в сентябре я уже вышла на работу. Я вышла на работу, чтобы у меня был источник информации о том, где искать помощь, к кому я могу обратиться, где я могу найти литературу по развитию. И тогда сразу же в поисковой строке первым пунктом я получила название московского благотворительного фонда «Даунсайд Ап». Он как раз специализировался на помощи детям с синдромом Дауна. Я подписалась на рассылку, получила специальную методическую литературу и там же, в Интернете, нашла очень много форумов, где общались мамы со всей России. Там можно было задать вопросы самые разные, но только через четыре года я познакомилась на этом форуме с омской мамой.
— Ничего себе!
— То есть прошло четыре года, прежде чем я нашла человека с такой же проблемой в моём родном городе. Из других регионов было много мам. И вот мы встретились.
— А других способов узнать друг о друге не было?
— Ну где я могу спросить о том, у кого ещё такие дети?! Прийти в поликлинику? Вряд ли такую информация мне дали бы. И вот так мы нашлись. Оказалось, что у той мамы есть знакомая семья, у которой тоже есть ребёнок с проблемами в развитии, тоже с синдромом, но взрослый. И мы договорились встретиться. Состоялась первая встреча. И на ней же мы решили, что нам нужна какая-то «общинка», куда бы мы приходили, общались, обменивались опытом, может быть, даже занимались с ребятишками. Так родилась идея. Это был 2007 год. И уже в феврале 2008 года мы зарегистрировали организацию. Вот за этот период мы нашли 13 семей, которые стали учредителями организации. Где мы их нашли, я до сих пор не помню. С тех пор свой путь начала «Планета». Она тогда была не «Планета», а «Даун Синдром Омск», — «Планетой» она стала чуть позже.
— Почему вы решили расшириться и выйти за рамки одного заболевания?
— В 2013-м, наверное, году ко мне пришла мама. У нас уже на тот момент была одна комната, которую нам выделила администрация города, и мы проводили там занятия. Пришла мама с ребёнком, у него были другие проблемы: расстройство аутистического спектра. В её окружении были мамы именно с такими детьми. Она пришла за советом, как создать организацию, как написать грант, как получить поддержку, чтобы с их детьми тоже занимались. Мы разговаривали и консультировали их, как создать, что нужно для регистрации. В итоге эта инициативная группа решила, что они не готовы к самостоятельной организации, и было принято решение влиться в наш коллектив, а мы провели ребрендинг организации. У нас, получается, руководитель направления, и отдельно развивается направление помощи другим детям. Так произошло переименование.
— На тот момент вы сами не могли получить большую, грамотную помощь. Получается, создание этого центра — это «помоги себе сам».
— На самом деле да. В те годы никто не знал, как заниматься этим, в детские сады и школы таких ребят ещё не брали, потому что не знали ни методик, ни того, как с ними заниматься, ни того, что с ними делать принципе: какие у них потребности, как они развиваются. Потому что в учебниках написано совсем другое — что эти дети не подлежат никакому развитию, что они будут «овощами» до конца своей жизни. На самом деле всё оказалось с точностью до наоборот.
— Буквально немного времени прошло, чтобы это доказать.
— Да! И я вам хочу сказать, что медицинские работники до сих пор иногда удивляются, что дети с синдромом Дауна оканчивают коррекционные школы, что они работают, что их можно трудоустроить, что они могут выполнять какую-то обычную, повседневную работу. То есть время поменялось, а учебники — нет!
— Поменялся мозг у человека.
— На самом деле за 17 лет действительно поменялось мировоззрение. И с нашей помощью, и в связи с тем, что мы выпускали книжки, проводили мероприятия, привозили в наш город специалистов, которые работают с такими детьми. Звали и медицинских работников, и педагогических, чтобы они видели пример, как можно работать, что нужно делать.
— Сегодня в вашей организации сколько детей, сколько «выпускников», каковы их судьбы, они выпускаются или остаются, как молодые взрослые, здесь же, продолжают дальше ходить?
— Наверно, «выпускники» — так не скажешь. Есть дети, которые приходят в организацию и уходят из неё. Это такой естественный процесс. Кому-то нужна была кратковременная помощь в психологическом плане, у кого несложные проблемы интеллектуального характера, кому-то нужна была помощь логопеда, поставили звуки — и ребёнок ушёл. Таких, конечно, немного, по большому счёту основная часть детей ходит к нам годами. Сейчас в общей массе со всеми нашими отделениями это где-то порядка 600 человек. Это много. Они разбросаны по городу, то есть к каждому отделению прикреплены определённые семьи, и они получают помощь там, где им ближе, или там, где им удобнее, или там, где им привычнее, или там, где они работают, — удобно завезти ребёнка на занятия.
— Самому старшему, как вы уже упомянули, уже 40?
— 42. И взрослых ребят мы не выпустили, мы их продолжаем сопровождать. Потому что вот Жене — 42, Тане — 36, если я не ошибаюсь, они не трудоустроены, то есть они сидят дома. Чтобы они хоть как-то поддерживали свою социальную жизнь, у нас есть служба дневной занятости, они приходят на занятия три раза в неделю, общаются с ребятами, занимаются трудотерапией и, в принципе, неплохо себя чувствуют. И я не думаю, что они у нас в ближайшее время выпустятся (улыбается).
— Это такая история на долгие-долгие годы?
В структуре «Планеты» сейчас, получается, четыре филиала, они разбросаны по городу. Это удобно родителям или всё же есть мечта объединить все эти четыре филиала под одну крышу для вашего удобства? Есть вообще какие-то планы по поводу того, чтобы всю эту сетку собрать воедино?
— Отделения же возникали не одновременно, а исходя из потребностей. Сначала это был вообще единый центр, куда ходили все подряд — от грудничков до взрослых ребят. Потом стало понятно, что там, где сталкиваются «ребята-годовасики» и взрослые ребята, это неудобно. И чтобы не было конфликтной, травмирующей ситуации (именно физической травмы, потому что одни мелкие, другие сильно крупные), мы решили их разделить. Так сначала появилось отделение для взрослых. Вывели их в отдельную историю, у них есть мастерские, у них есть театр, творчество, танцы, музыка, домоводство, — они творят, и им никто не мешает. А совсем малыши и школьники остались в отделении в нашем центре — мы его называем центр развития, центр коррекции. Поняли, что количество детей в этом центре максимальное и они просто не входят, то есть специалисты не могут в ночную смену работать (хотя родители нам постоянно пишут — увеличить количество времени работы). У нас один только вариант — найти специалистов, которые будут работать ночью (улыбается). Других вариантов нет. И так центры для ребят от 0 до 18 работают — один с 8 до 8, другой с 9 до 9, то есть и так полностью световой день, я бы сказала. Вот наполнился один центр — тогда появилась потребность открыть следующий.
— По ходу всё возникало?
— По ходу, да. Видимо, был правильный посыл во вселенную, потому что сразу нашлись — грантодатель, помещение, нашёлся коллектив, который в это помещение заехал и начал работать. Второй крупный центр у нас не левом берегу в районе «Фестиваля». Он также работает с ребятами до 18 лет. Ну и четвёртое отделение, оно появилось недавно, — уже не вмещаемся в два! Надо что-то делать дальше.
— То есть на очереди пятое?
— Пока нет (смеются обе). Пока наполняем четвёртое.
— Или один из филиалов нужно всё-таки как-то достроить?
— Надстроить, достроить? Да, возможно. В смысле, что родителям удобно, они в разных районах города: кто-то живёт, кто-то работает рядом.
— Всё же удобнее, когда разбросано это всё по городу?
— Родителям — да. Мне неудобно как руководителю, то есть я не всегда физически присутствую в каждом из отделений, и от этого страдают коллеги. То есть некий такой «свободный художник» иногда у нас появляется: что хочу, то делаю. Поэтому контроль всё-таки должен быть в некоторой степени, и я теперь озадачена тем, как его осуществлять. Я не могу размножиться, я не могу во всех четырёх отделениях находиться одновременно. У меня есть помощники, какую-то часть делегирую им, где-то, возможно, появятся новые должности, которые будут выполнять функции руководителя.
Идея с единым центром, конечно, классная, его можно было бы отстроить от детского сада до школы и сопровождаемого проживания, где всё в одном месте: с ипподромом, иппотерапией, канис-терапией и бассейном, как мы, родители, мечтали...
— Это целый городок!
— Да, мы собирали пожелания родителей, где-то иногда они сами эти пожелания высказывают, но это просто пока неисполнимая мечта. То есть нет такого здания в Омске, и его пока невозможно построить, хотя вот тут рядом с «Точкой кипения» есть пустующее здание (обе смеются), которое, может быть, кто-то сможет отремонтировать и сделать классный центр. Но... это пока из разряда иллюзий.
— У ребят есть возможность заниматься и в швейном цехе, есть кулинарная студия, и — что там ещё — театр?
— Театр, столярная появилась, танцевальная есть, музыкальная. Каждое направление вылилось в продукт. Если швейная мастерская — это постельное бельё, пелёнки. Есть некоторый опыт грантовой поддержки именно этой мастерской, то есть мы учили ребят, отшивали и передавали на благотворительность: продукт можно потрогать, он приносит пользу.
— Ребята, самое главное, могут это всё ощутить.
— Ребята это видят. Выставки, безусловно, мы тоже проводим, участвуем с тем продуктом, который они выпускают. Кулинарная мастерская (мы её называем домоводство) — то, что они приготовили, они целый день сами, конечно, едят. Тем, что они приготовили, очень активно пользуются специалисты, кто там работает. У нас даже есть доставка из кулинарной мастерской в отделения: можно привезти и получить горячий обед. Танцевальная мастерская у нас прирастает различными выступлениями вместе с театральной. Ребята выступают очень активно на разных площадках города. Театральная покаталась и привезла разные дипломы. Есть дипломы как победителей, так и просто участников: в разных конкурсах и в разных фестивалях по-разному складывается у нас история. Последнее наше выступление было в 2023-м, кажется, году: в Липецке были Международные инклюзивные игры, и мы оттуда привезли победу.
— На какие средства удаётся больше жить — на какие-то сборы, на помощь родителей?
— Бюджет организации очень сложный. Он складывается из разных составляющих. Основную часть, конечно, финансирует Министерство труда и социального развития за те услуги, которые мы оказываем детям. То есть ребёнок приходит на часть занятий бесплатно, за эти занятия приходит компенсация от государства. Есть у нас взносы для родителей, без этого мы никак не можем прожить, к сожалению. И мы об этом их просим, чтобы они свой вклад тоже делали в эти организации. Есть грантовая история, когда туда может быть заложена зарплата специалистов, и на материально-техническую базу, и на материалы, которые нужны для мастерских, можно написать и получить грант.
— То есть все способы финансирования, какие существуют.
— Открытых сборов как таковых у нас нет. Хотя был опыт сборов на краудфандинговых площадках. Мы открывали ресурсный класс для детей с аутизмом в общеобразовательной школе, и, чтобы оборудовать этот класс и запустить его, мы собирали деньги. Скажем, это была история с миру по нитке.
У нас есть история фандрайзинговых проектов. Например, наши спортивные мероприятия. Они благотворительные. Те, кто хочет прийти и пробежать спортивную дистанцию: от мала до велика, неважно, с особенностями или без, — они вносят денежный вклад. И эти собранные деньги, как правило, (используются так): мы покупали специальную литературу, мы привозили каких-то специалистов, организовывали семинары для родителей и педагогов, мы покупали игрушки или какие-то игры для ребят, пособия для игровой деятельности. Всё, что мы выпускали как свой продукт, допустим, книги, календари или журналы, — это чаще всего всё-таки грантовая история или субсидия, то, что поддерживается государством. Разные направления!
— Хочется ещё затронуть кадровый вопрос. Не секрет, что в таких помогающих сферах специалисты очень быстро выгорают. Как вы боретесь с этим выгоранием, может быть, всё-таки удаётся вам обойти этот острый камень?
— Нет, однозначно не удаётся его обходить. Но как руководитель и как мама (я для них тоже мама!) я очень часто вижу, у кого этот процесс более ярко выражен, и стараюсь не допускать до максимума. У нас, во-первых, график работы выстроен так, что есть выходной день, и специалист работает не с восьми до восьми, а у него есть определённые рабочие часы. Дети всё-таки — это история такая: как в школе, так и в детском саду они болеют. И по большому счёту у специалистов внутри рабочего дня, рабочей смены есть дети, которые ходят стабильно, а есть дети, которые выпадают из расписания. То есть в этот час специалист отдыхает или занимается своими делами, готовится к следующим занятиям. То есть нет такого: если у тебя сейчас нет ребёнка — занимайся ещё кем-то дополнительно. Это одна история. Потом, мы очень лабильно стараемся прислушиваться к людям и проводить какие-то мероприятия для них. Это могут быть совместные выезды, это, безусловно, какие-то корпоративные мероприятия, посвящённые праздникам, и не только. Последняя наша история — мы дружим с одним человеком с 2009 года: Инесса Соломоновна Баскина, дефектолог с 30-летним стажем. Сейчас она живёт не в России, но она в России очень активно продолжает делиться своим опытом, приезжает несколько раз в год. И вот так получилось, что как раз три дня назад у нас с ней был выездной семинар по выгоранию.
— Что советует?
— Что советует? Разобраться с собой.
— То есть все проблемы внутри человека?
— Да, внутри себя, внутри семьи. Как правило, мы почему-то думаем, что другие люди должны угадать, что нам не нравится или что не так. Человек — существо социальное. Он должен, чтобы что-то получилось, разговаривать и договариваться. А мы, как правило, стараемся всё держать в себе: пусть сам догадается, почему так случилось... Нет, надо говорить! Не получилось на работе — значит, что-то есть в семье, какие-то нелады: надо договариваться с ребёнком, с мужем, с самим собой. Наладишь погоду у себя — всё наладится и снаружи.
— Сейчас послушают все — и все пойдут налаживать.
— Ну а почему нет! История с психологом, с личным терапевтом — не зря же говорят, что любой помогающий психолог должен брать супервизию, чтобы не выгореть на работе. То есть он всё равно настолько всё пропускает через себя, каждую историю; невозможно каждому сочувствовать и с каждым быть максимально отстранённым, ты всё равно проявляешь эмпатию. Поэтому после этого ты должен восстановиться. Не только психолог. Наверное, это относится к каждому из нас.
— В вашей жизни в этом году появилась Школа региональных экспертов. Что это за школа? Вы сделали такой мощный шаг. Вы говорили, что там было 9 человек на место. И вы каким-то волшебным образом попали туда. Как вы попали, на что обращали внимание? Как вы сами считаете, почему вы в этом числе и что это вам даст?
— Школа — это один из шагов собственного развития. Я понимаю, что мне как руководителю тоже невозможно стоять на месте. Я хочу расти дальше, я вижу, что некоторые моменты в своей организации тоже уже переросла. То есть я могу их отдать кому-то другому, и человек будет безболезненно в этой сфере развиваться, расти, а я пойду дальше. Поэтому, когда я увидела набор в школу, я подумала — почему нет?! Мне нравится история с экспертизой, не знаю только, в каком направлении это будет развиваться: сейчас экспертный продукт пока на стадии формирования. Школа эта питерская, и она собирает яркие, талантливые заявки со всей России. Кто заявился? В этом году, сказали, было рекордное количество заявок, около 300, поэтому получился большой конкурс. Набрали всего 25, то есть 9 человек на место.
— Слушайте, оказаться в двадцати пяти?!
— Честно говоря, я не помню свою заявку, что я там писала и как я там писала. Мы как пишем грантовые заявки? Мы её написали, отправили, а там уже отсроченная история. Проходит два-три месяца, прежде чем выдаётся результат: победил ты или не победил, прошёл ты или не прошёл. Для меня было неожиданностью, что я прошла конкурсный отбор. На самом деле я не была уверена в своих силах. Там было обязательное условие — видеовизитка. Вот в чём я была уверена — в том, что на видео я красотка. (Обе смеются.) Почему? Потому что в прошлом году я окончила школу ораторского мастерства. Нас учили красиво разговаривать, снимать видео. Я тут прямо оттренировалась! Но теперь мне надо двигаться дальше, потому что Школа региональных экспертов — это не только видео, это выступления, это экспертный продукт, который должен быть упакован и предлагаться на открытом рынке. Поэтому — есть к чему стремиться.
— Будет тяжело?
— Несомненно. Я даже не сомневаюсь. Потому что любое выступление, любое обучение требует сил, вложений. Работу никто не отменял, семью никто не отменял. Тяжело будет.
— Но вы готовы?
— Несомненно!
— И это будет тогда…
— ...третий эксперт в регионе, да. Нас будет трое.
— Это мощно для города-миллионника — три эксперта.
— Но мы команда, мы друг друга хорошо знаем.
— Это сертифицированный эксперт в своей области?
— Да. У Школы есть сайт. Действующие эксперты размещены на сайте. В принципе, можно посмотреть, в каких регионах больше людей, в каких меньше.
— Что это даст вам? Какие возможности открывает?
— В последнее время я сама очень активно ищу эту историю, чтобы двигаться в экспертизу грантовых заявок. Мне нравится читать заявки, делать экспертизу, понимать, что хотели люди, зачем они это хотели, поддерживать этих людей, то есть в этой сфере развиваться.
— То есть вы будете одним из тех людей, которые одобряют грант?
— Который выставляет оценки. А одобрение — это уже дело другое.
— Дело грантодателя.
— Да.
— Как вы считаете, в наше время, сегодня изменилась ситуация, вообще отношение к детям с особенностями развития здоровья и вообще развития? Вот на тот момент, когда появился ваш ребёнок, — в 2003 году, была одна ситуация. Сегодня общество стало как-то лояльнее, проще родителям стало с таким ребёнком, воспитывать его и растить? Или есть ещё масса проблем, вопросов?
— Проблемы, вопросы — они будут всегда. Это всё-таки, наверное, больше индивидуальная история. Но основная проблема отношения к людям, к детям сдвинулась с мёртвой точки. Это точно! Даже если брать вот этот временной промежуток с 2003 года по сегодняшний день — сто процентов. Детские сады, школы, образование повернулось в сторону ребёнка с инвалидностью, будем так говорить, неважно, с каким диагнозом. Пришло понятие — нет необучаемых детей. Всё! У каждого есть свой образовательный маршрут. Это может быть детский сад, это может быть школа, это может быть надомное обучение, но оно есть. То есть ребёнок из системы образования уже не выпадет. Если такие истории есть, они должны подсвечиваться и решаться. Не каждый родитель готов, опять же, в образовательную историю своего ребёнка включать. Это другая история. Но если у ребёнка есть хотя бы минимальные шансы получить образование, пусть и коррекционное, он его получит.
— То есть возможностей стало больше?
— Однозначно. Школы, детские сады детей берут. Сложнее с профессиональным образованием. Не так много профессий, куда могут пойти ребята с ментальными нарушениями. Мы несколько лет назад инициировали историю про то, чтобы расширить в регионе спектр профессий. Но расширили пока только на одну — фотограф. И это тоже не совсем правильная история, потому что набор, допустим, на фотографа десять человек. Выпустят этих ребят-фотографов — куда они пойдут работать? Вопрос!
— Очень конкурентная сфера.
— Да. И в самостоятельное плавание не отпустишь. К кому-то «прицепить» учеником? Ну, может быть. Насколько долго? Постоянно? Тоже, наверное, вряд ли. Остальные профессии, как правило, такого низкого уровня — садовод, дворник, маляр...
— То есть это неквалифицированный труд?
— Это неквалифицированный по большому счёту труд, и не каждый ребёнок с ментальными нарушениями может в этой профессии быть. Кому-то по здоровью, допустим, нельзя дышать краской, кому-то нельзя поднимать тяжёлое. Это очень индивидуальная история. По статистике того же Министерства образования, только 0,2 процента выпускников коррекционных школ находят работу. Где остальные? Вот что они делают?!
— Они сидят дома...
— Сидят дома, скорее всего, да. И получается, профессия — это сложный на сегодняшний день вопрос. И соответственно трудоустройство: следующий этап, который такой же сложный.
— Это то, что предстоит ещё решать?
— Да, это на десятилетия вперёд. Ещё придётся решать. А то, что отношение людей поменялось, это да! Уже и на региональном уровне, и на федеральном. Наверняка многие знают, видят, слышат, когда какой-то резонансный случай: кого-то из таких детей не пустили, например, в аквапарк, ещё куда-то или просто на карусельки, — очень резонансно реагируют средства массовой информации на эту историю.
— К счастью, да.
— И система стала всё-таки более лабильной.
— Вы как-то говорили, что секрет успеха измеряется не только цифрами и показателями, ещё он измеряется человеческим отношением. Как вообще вы подходите к подбору персонала? Какими качествами должен обладать сотрудник, прежде чем устроиться к вам?
— По большому счёту нет какого-то определённого, жёсткого требования, каким должен быть сотрудник. У нас очень много работает студентов, кто ещё даже не окончил высшее учебное заведение.
— Вы принимаете студентов?
— Да. То есть они не имеют за плечами опыта, не имеют ещё, допустим, семьи и собственного опыта воспитания ребёнка. Не это принципиальная позиция. Главное, чтобы человек, который приходит в помогающую профессию, в принципе хотел помогать. Научить можно любого, мы с коллегами никогда не отказываемся помочь, показать, как работаем, с чем работаем, поделиться методиками. К нам можно прийти на стажировку бесплатно, даже если ты не знаешь, твоя это профессия или ты ещё не определился с профессией. Можно прийти и посмотреть, как работают специалисты, и принимать решение: да, я хочу, да, мне интересно. Или: это не моё. Такое тоже может быть. И никто не будет против, ты можешь всегда поменять профессию. К нам водят студентов на практику, к нам в центры просто приходят на экскурсии — приводят студентов, чтобы они посмотрели, в ту ли профессию они пришли. И по большому счёту к специалисту, который приходит трудоустраиваться, у меня один вопрос: чтобы он любил детей. И относился к ним уважительно.
— Есть ли какая-то мечта у вас как у мамы и как у руководителя центра?
— Мечтать не вредно! (смеётся) Ну нет, мечты сбываются, я на себе это тоже ощутила. Я же не могла представить, что в этом году мой Максим будет работать. В принципе, пока даже практически без поддержки. Вот иногда бывают у нас ситуации, когда мы что-то делаем не так, но это корректируется с двух сторон — со стороны работодателя, с моей стороны, со стороны папы, семьи. Я мечтаю о том, чтобы он стал максимально самостоятельным, независимым от меня. Это история, наверно, не ближайших пяти лет, может, десяти, а может, и двадцати… Нам есть над чем работать. Я мечтаю, чтобы другие ребята были максимально самостоятельными, чтобы мамы были спокойны, чтобы специалисты не выгорали, а продолжали работать.
Как у руководителя? Трудно мечтать о чём-то глобальном, но всё-таки мы не можем помечтать о том, чтобы у детей не было инвалидности, — это несбыточная мечта. К сожалению, статистика показывает, что таких детей становится больше, а хотелось бы, чтобы меньше. Пусть будет так сформулирована мечта. Диагностика, видимо, хорошо стала работать.
Может быть, когда-нибудь мы дорастём до единого нашего реабилитационного центра, глобального — от рождения и до самой старости, где ребята будут встречаться и друг с другом взаимодействовать. Почему нет! С бассейном, с иппотерапией, с канис-терапией и со всем остальным (улыбается).
— Это городок можно отстроить!
— Девятиэтажный дом!
— Пусть мечты сбудутся! А вам спасибо за то, что пришли!
— Спасибо вам!
Полную версию видеоподкаста можно посмотреть здесь