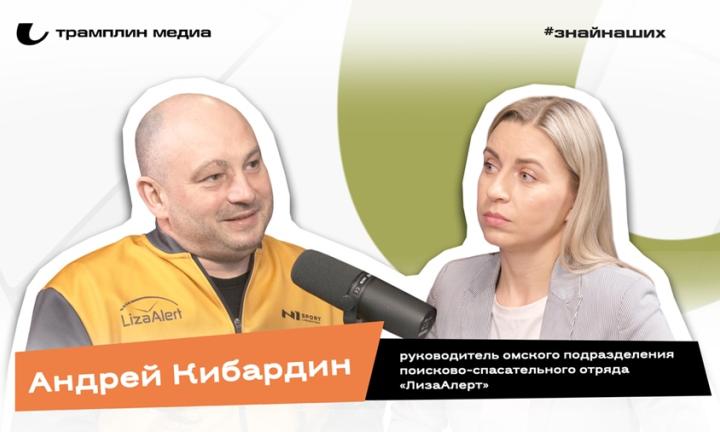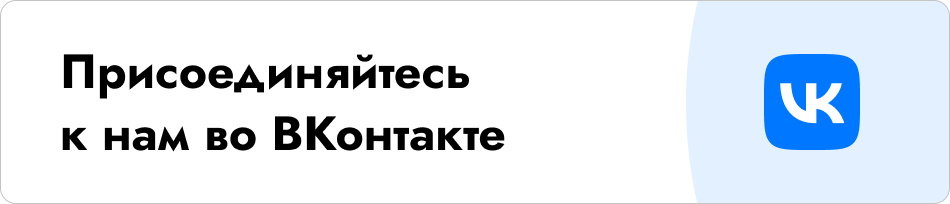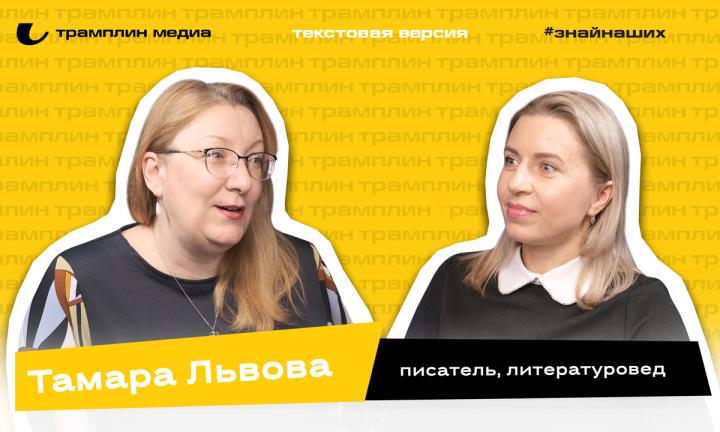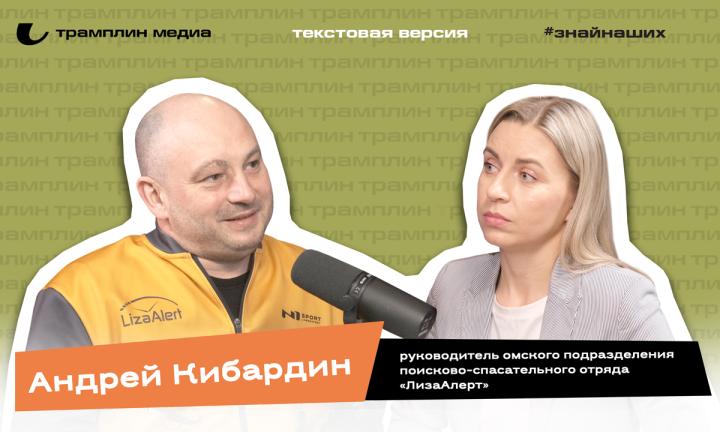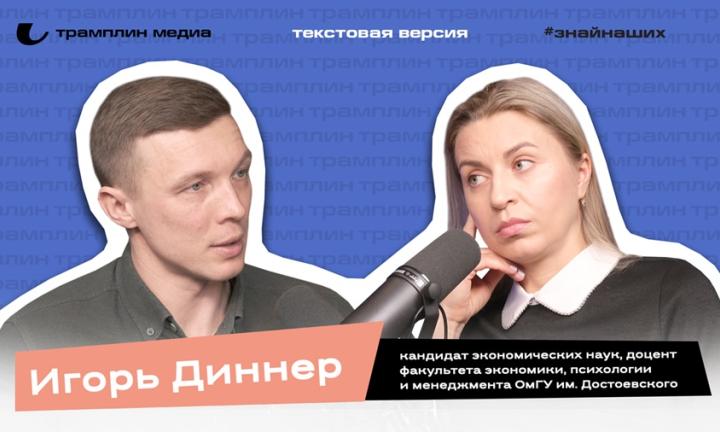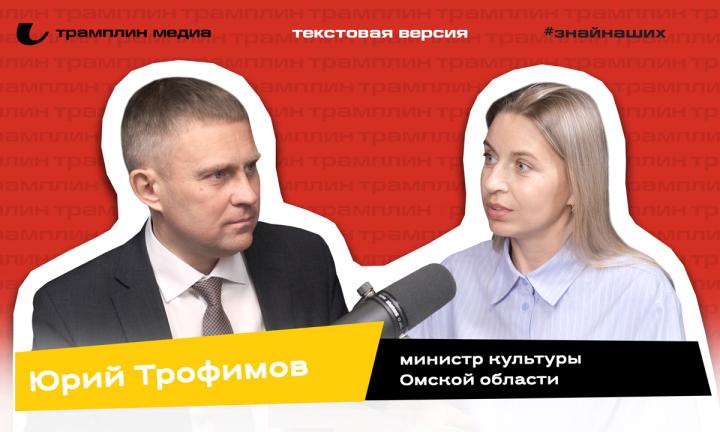Дата публикации: 22.06.2023
Для тех, кто любит читать, текстовая версия подкаста «Знай наших!» с Ярославом Лапой, музыкантом и поэтом.
– Это Трамплин Медиа с подкастом «Знай наших!». Сегодня у нас Ярослав Лапа – музыкант, поэт, автор проекта «Дискотека на колясках», это музыка – рэп? Я прочитала, всё-таки позиционируется как рэп и рок.
– Наверное, да. Тут очень сложно как-то стилистически попасть. Я могу назвать проекты, из которых я взял как барабаны звучат, как гитара звучит, то есть это в общем лоскутное одеяло.
– Компиляция.
– Да. Эклектичная в каком-то смысле, наверное. Но проще сказать так, рэп и рок.
– Такая межжанровая музыка.
– Наверное, да. Либо мы просто пока не поняли, к какому жанру себя отнести.
– Неопределившиеся.
– В жанровом плане.
– Хорошо. А что было раньше – поэзия или музыка?
– Я думаю, что это вещи, которые отдельно друг от друга существуют. Поэзия или песня, наверное, правильнее будет формулировать, мне так кажется. Потому что музыка разная бывает – бывает классическая музыка и не только классическая, там всякая разная бывает инструментальная. А что было раньше – поэзия или песня – чисто хронологически, наверное, всё-таки песня, потому что это нас отсылает к шаманизму всякому, всему такому. Короче говоря, если сейчас сильно в дебри не уходить, как я вообще воспринимаю поэзию – у стиха есть своё звучание, просодия, его музыкальность. Если это стих, то он существует отдельно.
– Текст для песни без музыки уже не так воспринимается.
– Конечно. Сто процентов!
– Тогда начнём с поэзии. У вас поэзия началась с чего и с кого? Как вообще это случилось? Я объясню, почему я задаю этот вопрос: я не то чтобы болела этой темой. Как человек, который был воспитан школьной литературой, скажем так, без любви к поэзии, потому что школьная литература, уроки литературы – они как бы не воспитывают в детях любовь к поэзии. Как правило, стихи и вся поэзия отсекаются как что-то вообще абсолютно не трогающее, чужое, непонятное. Хотя, конечно, Пушкин – наше всё, никто не будет возражать, да? Но тем не менее – я знаю массу людей взрослых и молодых, которые, когда речь идёт о поэзии – как-то так лицо вянет, глаза тоже, и спросите любого книготорговца и издательство – там не берут печатать книги поэзии, потому что они не продаются. Это контекст, из которого вырастает вопрос: у вас откуда началась поэзия, интерес и любовь к ней?
– Вообще у меня мама и бабушка филологи.
– Просто повезло!
– С одной стороны, да. А с другой стороны, тут есть как раз то, о чём вы говорили: у нас дома тоже стихов никто не читал, прозу – да. Бабушка советского склада человек, её с Урала перевезли в Казахстан в какой-то момент – партия сказала «надо», и всё, она поехала. Она любила Пушкина, декабристов, всё, что с ними связано. На этом её любовь заканчивалась.
А мама у меня, мне кажется, довольно конкретный человек, для неё поэтические завихрения не очень интересны. Она прозу разную любит, читает, но со стихами как-то у неё не сложилось. Я про это на самом деле много думал. Начал – как все, в 15 лет послушал какие-то песни на русском, стал писать какую-то фигню, подражать. Потом, когда стал старше... Есть такой поэт русский андеграундный – Лёха Никонов, я его услышал и сильно впечатлился. Потом смотрел его лекции по литературе, он там к Серебряному веку мне любовь привил, а потом как-то я начал – мне было лет 19 – начал как-то сам во всём копаться. И уже сейчас...
– Борис Рыжий?
– Да, Борис Рыжий – вообще моя любовь. Такого человека тяжело найти – как человека, как поэта, мне кажется.
– Когда вы говорите в частности о Борисе Рыжем и о том, как он повлиял на вас, вы имеете в виду, что его стихи откликаются у вас – что-то личное, какие-то точки соприкосновения?
– Да, наверное... Да нет, не «наверное», а сто процентов!
– То есть вам близко его понимание, видение мира, жизни?
– Да, близко. Вот эта вот вся его тема околокриминальная, потому что я из такого города – там 40 тысяч человек, я родился и вырос там, он такой... типа заводской. Я никогда ни в чём таком не участвовал, но это всегда было где-то рядом, и я знаю людей, которые участвовали, знаю даже, кто чем закончил – про некоторых. Поэтому как-то и этот момент резонирует, и его отношение к людям. У него же была большая проблема как раз – он сильно любил всех своих друзей с района, которые потом закончили плохо. И он не мог понять, почему он жив, а они – нет, типа чем он лучше.
– Вина выжившего?
– Времена уже, конечно, другие были, не настолько страшные, но какое-то чувство, эмпатичность какая-то не в меру адекватная – в каком-то смысле и про меня тоже.
– Я вижу, вас это волнует. Скажите, поэзия – это вещь такая сложная, это, по сути дела, математика в каком-то смысле, потому что слагание слов это ведь очень концентрированный вид литературного творчества. Для прозы нужно больше слов, чем для поэзии. Вот этот подбор слов – самих слов, которые несут максимальное количество смысла – их выстраивание в поэтическую строку, в звучание, в то самое, которое без музыки могло бы быть – этому ведь нужно учиться. Где вы учились?
– У любимых поэтов и учился. Я, с одной стороны, жалею, что не закончил филфак какой-нибудь...
– Но на филфаке вряд ли вас бы научили писать стихи, прямо скажем.
– Да. Мы буквально вчера с подругой сидели разговаривали, она говорит, что её филфак, наоборот, испортил, в том смысле, что ей сложнее стало – она тоже стихи пишет. Ей стало это намного сложнее. Сейчас думаю про то, что было бы интересно в Литинститут имени Горького поступить в Москве, но это какая-то запредельная мечта. Мне очень нравится, как вы сформулировали – по поводу того, что это такое что-то концентрированное, потому что я сам так же думаю. Вообще в стихотворении лишнего слова не должно быть. Как Хармс говорил: стихотворение должно быть такое, чтоб его в форточку кинули – и там окно разбилось.
– Да. Плотное.
– Да, да.
– Вы заговорили о Хармсе. А кого вы ещё из поэтов того времени цените?
– Наверное, всех. Понемногу просто.
– Мандельштам?
– Да, сто процентов!
– Есенин?
– В меньшей степени.
– Да? Почему?
– Не знаю. Мне как-то его вот это...
– Кстати, если говорить о криминале, то это вот очень близко?
– Да, кстати. Про Рыжего же любят говорить, что он тоже в каком-то смысле наследник Есенина. Но мне не близко вот это вот его...
– Рвать рубаху?
– Да. Это такое, мне кажется. Пошлятина, если честно. Мандельштам, Блок...
– Маяковский?
– Да, Сто процентов!
– Вот сейчас читаю книгу о Маяковском, и интересная вещь: о нём тоже говорят, что, по сути дела, он был родоначальником русского рэпа. Согласны? Рваная строка, вот этот ритм жесткий?
– Наверное. В каком-то смысле. Я думаю, рэп на самом деле далеко стоит от стихов.
– Хотя есть образцы тех, кто достаточно высоко общается со словом.
– Да, вот, например, Хаски. У него действительно язык такой, что иногда слушаешь и думаешь: «Блин, вот это человек, конечно, да! Не каждый сможет так слова собрать».
– Мощь.
– Мне кажется, вообще весь футуризм, не только Маяковский, очень сильно повлиял на рэп в том числе, и вообще в принципе на всё, что было после них.
– А как вы к Бродскому относитесь? У него такая эстетская поэзия, очень сложная и витиеватая.
– Да, есть такое. Вот в том и дело. Я как-то – сейчас мне 28 лет – а когда мне было года 22, наверное, я так полюбил Бродского! И читал, и вообще всё посмотрел – три несчастных видео, на которых он есть...
– Читает он стихи – сложно, конечно, слушать.
– Да, вот это вот его...
– Завывание такое.
– «Постоялец, несущий в кармане граппу, совершенный никто, человек в плаще...». На самом деле нет, я сейчас передразниваю, просто потому что я плохо помню текст. Я не могу сказать, что это не то что неприятно, но как-то... Это здорово на самом деле звучит, и мне кажется, с образом Бродского это вполне себе гармонирует. Особенно с образом позднего Бродского, когда он уже...
– В эмиграции?
– Да-да. Молодой-то он там тоже что только не вытворял.
– Давайте вы почитаете свои стихи? Чтобы мы могли послушать вас.
Девятина напротив
сквозит достоевщиной
вся такая посконная, жёлтая, вялая.
Солнце, после обеда
над крышей повешенное,
заливает весь двор,
как советскую ванную,
в которой долго мылись.
Очередной пейзаж выморочный
из очередной пустой квартиры.
Я тебя когда-то любил.
Кажется.
И тебя я тоже любил.
Кажется.
А сейчас боюсь узнать,
где твой муж –
убегает, стреляет, прячется?
Или просто делает вид,
что ничего не происходит,
и вы планируете
кайфануть на Бали,
купить Geely Emgrand,
родить ребёнка.
И говорит себе,
что ничего не происходит,
ничего не происходит,
ничего не происходит,
ничего не происходит.
Не его. Проходит.
Я боюсь узнать,
что вы тоже боитесь
перемазанным кровью утром,
вываренным костлявым обедом,
давящимся от мяса вечером,
скользкой волосатой ночью.
Я вцарапываюсь глазами в девятину,
её балконы, во двор, его детские турники.
И высовываюсь в холодную форточку,
если не подышать, точно снова стошнит.
Спасибо за поздравление с днём рождения,
мне было очень приятно.
У меня всё хорошо.
Правда.
– Это похоже на белый стих.
– Это верлибр, не совсем белый стих.
– Такой сложный ритм.
– Там ритм такой как бы немного ломаный и рифма неточная. Но верлибром уже все пишут давным-давно на самом-то деле. В русскую литературу верлибр очень поздно проник, потому что... он на самом деле там был чуть ли не с 40-х годов. Владимир Бурич, например, верлибрист просто гениальный. Он из детей войны, в войне не участвовал – в Великой Отечественной – он был молод. Но его не печатали с 90-го года, потому что у нас был соцреализм, надо было, чтобы всё было определённым образом. А так – весь мир уже давно не то чтобы совсем на рифму и размер забил, но так, немножко их в сторону отодвинул. Тут пользуется, а тут – нет.
– Больше свободы? Почему для вас это важнее, чем размер стиха, например, который довольно жёсткие рамки выставляет?
– На самом деле я по-разному люблю писать, у меня есть и в размер очень много. В размере как раз там очень всё здорово – я говорил про просодию, про музыкальность. Когда я пишу в размер, меня как раз эта музыкальность увлекает. Блока взять, допустим. Стихотворение типа «Девушка пела в церковном хоре...». Вот первая строчка, его просто читаешь и...
– Музыкальность в самом тексте, получается.
– В ритмике, в том, как это срифмовано. Когда пишу силлабо-тонический стих, в котором есть размер, в котором есть рифмы... Я могу сейчас ошибиться с определением силлаботоники, ну ладно, размер увлекает тем, что там я сильнее чувствую эту музыкальность. Это личное ощущение. А верлибр – больше свободы. Но местами я смотрю просто на какие-то тексты свои... Надо быть современным – не в том смысле, что гнаться за чем-то.
– За трендами.
– Но всё равно – написать так, как Жуковский писал сейчас...
– Ну, Жуковский точно нет.
– Окей, или как Евтушенко писал – зачем, это уже было.
– А верлибром пишут все?
– Не знаю, насколько все. Опять же, у нас Союзы писателей – по крайней мере региональные, с которыми я в Омске сталкивался, очень по касательной мы сталкивались – но там очень многие люди вообще не признают, что это стихи.
– То есть такой снобизм.
– Такой, да. Что они такие наследники всех.
– Понятно. Их можно понять. А не могли бы прочитать стихотворение в размере? Для сравнения.
– Мог бы. Вообще без проблем.
Это было лет шесть или восемь назад,
мы ходили на сраную группу «Louna».
Да, сегодня я сноб, а тогда я был рад,
на какой-то песне целовал тебя в губы.
В первый раз, если честно, целуешь женщину.
Так целуются третьеклассники.
У меня ещё были здоровые руки,
у тебя ещё не было мальчика,
с которым вы расстались в субботу
и о котором ты теперь говоришь:
«Мы с обеда, идём на работу».
Лица нам обглодала мышь,
но зато серьёзные честные люди.
1С, консалтинг... <...>, ё-моё.
Ничего никогда по-другому не будет.
Жизнь – угвазданное бельё.
Только не когда мы идём в Нефтах,
где-то на местности возле твоей общаги.
Я рассказываю про музыку,
а ты смотришь карими и большими глазами.
Каждый верит, что всё получится,
что вот-вот – и мы кем-то станем.
Почему всё сделалось порожняком?
Как всегда – вопрос, на который не будет ответа.
Весна вскрыла зиму консервным ножом.
Скоро начнётся лето.
– Оптимистично.
– Да у меня всё такое.
– Я хотела просить вас по поводу разговорного. В принципе я не имею ничего против ненорматива. Его и Бродский использовал, и Пушкин (наше всё). В общем, это совершенно нормально. Другой вопрос в том, как его использовать. Его обилие снижает экспрессивность, к чему, собственно, и призвано. Вы когда принимаете решение использовать обсценную лексику или нет – как это у вас в поэзии?
– Я к этому отношусь серьёзно. То есть это не так – типа набросал.
– Не ради красного словца.
– Да, конечно. Если я говорю так, значит, я просто не могу сказать по-другому. У меня бывают моменты, когда я примерно пишу... Пару раз такое было, когда я написал текст, смотрю и думаю: блин, я тут перестарался. Вот здесь, вот здесь и вот здесь – это лишнее.
Я всё-таки не первый год уже этим занимаюсь и как-то дошёл до точки, в которой я себе в каком-то смысле доверяю. Но когда я начинал – часто промахивался, в том плане, что где-то там лишнего. Но это чаще всё равно на уровне ощущений. Количественно я не измеряю.
– Чутьё, скажем так.
– Да. Но я потом всё равно за собой проверяю.
– Вам себя сложно редактировать?
– Нет. Я не из тех людей. Зависит, конечно, от ситуации, но я могу очень долго над текстом сидеть. У меня нет такого, что я его написал и всё...
– И не вырубить топором.
– Да. Типа 15 минут прошло – и всё готово. Нет, такого нету совсем.
– Как вы для себя отличаете хорошие стихи от плохих?
– Это очень сложный вопрос.
– Я сейчас попробую его упростить для вас. Мы не говорим глобально – хорошие или плохие стихи – мы говорим о личном восприятии. Когда вы читаете чьё-то стихотворение, тот же Есенин, например, которого мы упоминали – у него есть стихи, которые были, видимо, в период жуткого психологического состояния, они для вас плохие, потому что вам кажется это пошлым, да? Другие какие-то примеры подобные. Рифмы.
– Я не люблю шестидесятников, например. Вообще. Почти всех – огулом, скопом.
– Вознесенский, Рождественский?
– Вознесенский, Рождественский, Евтушенко...
– Белла Ахмадулина есть.
– Больше всего Евтушенко. Потому что... это тоже длинная история, но он мне отвратителен как человек и как поэт тоже.
– Конформист?
– Да, и это тоже. Есть ощущение, что он просто не понимал как бы вообще – что он делает порой. Я глобально – и про жизнь, и про слово.
– Вам кажется это неискренним.
– И это тоже, да. В любом случае у него можно что-то найти, если сильно покопаться. Был момент, кстати, не так давно, в сентябре в «Меге», в доме культуры. Там была, короче, печа-куча. Я там выступал как раз про пошлость в литературе – меня позвали или я сам решил, что про это поговорю... Там был Евтушенко, у него есть стихотворение, оно так и называется «Дай бог!».
«Дай бог слепцам глаза вернуть и спины выпрямить горбатым.
Дай бог быть богом хоть чуть-чуть, но быть нельзя чуть-чуть распятым».
Всё, я четыре строчки прочитал – меня уже воротит.
– Затошнило.
– Совсем не моя эстетика.
– Оттого, что вам это пошлым кажется, да?
– Да, конечно. Потому что это стихотворение можно охарактеризовать – я вспомнил примерно – «я хочу, чтобы всё было хорошо и не было ничего плохо».
– Понятно. Такой популизм, да?
– Да, в каком-то смысле да. Так ведь не бывает.
– А как вы относитесь к стихам Веры Полозковой?
– Вот это, кстати, вопрос посложнее. Потому что раннее творчество – тоже как-то типа...
– Но человек взрослеет и глубже становится, наверное. Жизненный опыт нужен.
– Да, нужен, сто процентов.
– Без него трудно.
– Я по себе могу сказать, что он нужен. Относительно недавно что-то у неё мне девушка моя показывала, Катя.
– Женская поэтесса она?
– Полозкова?
– Да.
– Я просто не настолько глубоко знаком с тем, что она сейчас делает. Просто помню, что год-полтора назад – я увидел и думаю: «Ничего, прикольно, уже поинтереснее, чем было».
– Хорошо. С поэзией мы не то что разобрались, но поговорили. Теперь о музыке. Как появилась «Дискотека на колясках»? Почему «Дискотека на колясках»? Что за название такое?
– Это долгая история. Я сначала играл просто рок – четырёхаккордный окологранж – и чувствовал себя прекрасно. У меня была очень близкая подруга, с которой мы из Казахстана сюда переехали и вместе всё это дело делали. В общем-то было неплохо, был незрелый проект, но он постепенно как-то начинал мясом обрастать. Но в самый интересный момент я заболел. Короче, у меня перестала гнуться правая рука – а я на барабанах играл и писал тексты. У меня начало руку сводить судорогами, не было понятно, что это такое. Пока я разбирался, что это такое, я потратил два с половиной года на это. Подруга моя уехала в другой город. В итоге выяснилось, что я вообще ни на чём играть больше не смогу – глобально, двумя руками. Это заболевание центральной нервной системы, это мозг и там отдел мозга, который – как мне объясняли, мне в Новосибирске в итоге поставили диагноз – просто неправильные сигналы в руку посылает. Я делаю любое малейшее движение, даже сейчас пальцы просто складываю – и всё, я не могу кисть разогнуть. Это не периферическая нервная система, это не мышцы, это никак не лечится. То есть симптомы можно снимать, я постоянно таблетки пью, когда деньги есть – уколы делаю, но делал это один раз, потому что очень дорого. Как-то в этих условиях я подумал – чем же заняться. Музыка... Я не знаю, что для меня важнее на самом деле, даже кажется, что музыка, наверное. Мы к этому ещё вернёмся. Вопрос-то про «Дискотеку» был. Короче, начал я пытаться себя в каких-то новых музыкальных формах искать, что-то с электронной музыкой связанное. При этом всё равно хотел, чтобы там была гитара обязательно – к этому у меня мания, эти гитары, блин. В 2016-м заболел, в 2018-м диагноз, сейчас 2023-й, а мы в 2022-м в первый раз выступили. Действительно, 4 года я как бы себя искал – и нашёл. Ну а название «Дискотека на колясках» такое, как бы туповатое немножко...
– Нет, во-первых, оно запоминающееся.
– Да, наверное.
– И отсылает к... у меня ассоциация – это люди, танцующие на инвалидных колясках. Так и есть?
– Да, так и есть. Я почему начал так издалека про руку – я сейчас в Казахстане, на родине снова живу, казахстанский паспорт... И когда я там пришёл к неврологу, мне сказали, что я могу инвалидность оформить. Это в общем про то, что что бы ни произошло, надо...
– Надо танцевать. Условно говоря.
– Условно говоря – да. Надо жить.
– Вас двое в группе?
– Да, я и гитарист.
– Гитариста всё-таки нашли! Кто будет играть на гитаре.
– Да, да.
– Ваша роль какая в группе?
– Я пишу всё...
– Музыку?
– Да, музыку всю, все аранжировки – и гитару в том числе – за исключением каких-то мелких моментов.
– Без вокала?
– С вокалом. С текстами. Пою тоже я. Антон – мой товарищ и гитарист – очень хорошо играет на своём инструменте. Его роль тоже нельзя преуменьшать, потому что я с ним поиграл чуть-чуть – мы давно знакомы – и я понял, что ни с кем не хочу играть, кроме него. Потому что я очень придирчивый человек, внимательный к деталям.
– Перфекционист.
– Да. И он способен сыграть как написано и ещё лучше в два раза! Хотя вроде он играет ту же самую партию.
– А музыкального образования у вас нет?
– У меня нет, у него есть – консерватория.
– Но вы пишете музыку. Всегда это для меня было на уровне волшебства такого. А ещё если и со словами, поскольку я человек тоже пишущий, я очень понимаю это с музыкой. Это прямо вот волшебство.
– Тоже было сложно.
– В голове слышите сначала музыку, мелодию?
– Нет, я сидел эти четыре года, запарился, теорию музыки изучал...
– Нотная грамота.
– Да, кварто-квинтовый круг, интервалы, лады, вот это вот всё. Тут ещё смысл в том, что даже если я слышу, я не могу на инструмент перенести – из-за того, что рука. Но когда я примерно понимаю, как это с точки зрения теории оформить, мне проще самому.
– На бумаге или на клавишах?
– На midi-клавиатуре я всё придумываю.
– Я немного послушала вашу музыку. Там, правда, в записи, а в записи, наверное, не очень хорошо – со словами не очень хорошо разобрать, музыка как бы больше забивает. А у вас – живые концерты. В принципе, как я понимаю, то направление, которое вы выбрали, – межжанровое, будем называть его так – это в общем совершенно не поп-музыка. Целевая аудитория, скажем так, сегмент небольшой. Вас это не расстраивает? Не хотелось ли вам глобально выйти – на большую сцену?
– Конечно, хотелось бы. Нет, я знаю людей, которым вообще абсолютно всё равно – три человека их слушает или три тысячи.
– Просто я делаю своё и мне нравится.
– Конечно, хотелось бы. Но в этом плане себя через колено ломать тоже не хочется. Делаю, что в этот момент кажется...
– Евтушенко быть не хочется.
– А я, кстати, не думаю, что он себя через колено ломал. Я думаю, что он просто конформист, его в принципе всё устраивало.
– Обласкан.
– Да, да. Это вообще, кстати, такая тема – про обласканность, когда людям сразу нравится.
– Не будем лукавить, но на самом деле каждый человек хочет признания.
– Сто процентов. Конечно. Я сейчас сижу, говорю... Конечно, я хочу на большую аудиторию выступать.
– Конечно, я хочу быть обласканным.
– Это глупо отрицать. Последний концерт играли с группой «Пионерлагерь Пыльная Радуга» – это наши старые друзья из Твери, они приезжали в Омск пару дней назад. Вообще их вокалист, он для меня во многом... чуть ли не отец. Я много чего у него почерпнул – в музыкальном плане, в плане текстов тоже. И вот он мне говорит: «Я люблю музыку. Что впечатляет в том, что ты делаешь – это музыка, которой абсолютно всё равно на слушателя».
– Свободная.
– Я говорю: «Блин, вроде это не совсем так, при этом сам сейчас хочу стилистически немножко отойти от того, что было на этом EP из четырёх песен». Он мне говорит: «Но ты же сам этого хочешь, это твоё решение, не потому что ты хочешь в чарты».
– Тут, кстати, большой вопрос. Потому что действительно ли я этого хочу или я сейчас могу только так? Это сложная тема, потому что, если честно смотреть вглубь себя и пытаться разобраться, чего ты хочешь, это не такая простая задача. Иногда ты сам себя обманываешь. Если я могу это, то типа я этого хочу.
– Да, это так.
– То есть это такая вещь сложная, довольно болезненная, если разбираться в этом: чего ты хочешь, чего ты можешь, что ты делаешь.
– Сто процентов. Да. Я потому и сказал, был диалог у нас тогда – и он мне говорит: «Я вот слышу, что тебе всё равно».
– А мне на самом деле не всё равно.
– А я говорю: «Блин, мне не то чтобы всё равно. Я вот такое хочу сейчас попробовать». Он говорит: «Ну, это же твоё желание». Но я в тот момент себе честно ответил: да, это и правда я так хочу. А сейчас вы сказали – и я думаю: а может, нет?
– А может, нет.
– Да, но это такой вопрос...
– По себе просто знаю. Я тоже человек творческий, поэтому по себе знаю, понимаю вас примерно. Скажите, если говорить о русском роке 80-х – и о нынешнем современном русском роке, как изменился русский рок? Слушали ли вы рок 80-х, учитывая ваш молодой возраст?
– У меня сложно с пространственно-временными всеми делами...
– Ну, например... Вы же знаете Цоя? Кто не знает Цоя!
– В юности слушал Цоя.
– «ДДТ».
– Никогда. «Алису» – нет, «Аквариум» – нет.
– То есть это далеко для вас, не трогает.
– Ну, «Гражданская оборона».
– «Гражданская оборона» особняком стоит, кстати.
– Да. «АукцЫон», например, я очень сильно люблю. Это просто гении.
– Группа «Ноль»? Чистяков?
– Поздно узнал. Не могу сказать, что люблю, но понимаю. В смысле – могу оценить, насколько хорошо сделано.
– Наверное, что можно сказать о роке 80-х... Я-то знаю, что такое 80-е, потому что это в общем конец Советского Союза и всё равно ещё авторитарное и тоталитарное, потому это своего рода протест. Скажем, 10 лет назад русский рок, сегодня – я, например, пробовала... Я иногда, когда хожу на прогулки, слушаю музыку – и слушаю её разную. В последнее время как раз чаще рок 80-х, а тут наткнулась, смотрю – современный русский рок. Думаю: «Ладно, я буду открыта новому!», сказала я себе и включила первый попавшийся трек. Это был совершенно мат на мате. И я подумала: «Нет, я слишком хорошо о себе думала. Я не готова к новому» – и убрала. А что у вас? Как вы относитесь к современному русскому року? Что там есть любопытного?
– Мне кажется, сейчас время вообще такой полижанровости.
– Не надо зацикливаться – рок это или рэп.
– Да.
– В современности нет такого отдельного явления.
– Мне кажется, что нет. Есть, конечно, группы конкретно жанровые и артисты конкретно жанровые. Но все, кто делает что-то стоящее, интересное – это почти всегда что-то на стыке. Вы говорите: «современный русский рок», а я в таком ступоре.
– Какой такой современный рок. Есть ли он?
– А это вообще кто?
– То есть всё правильно, нет никакого русского рока. Современного.
– Да.
– Вот потому, наверное, и вопрос возник – в принципе его не заметно, потому что его нет.
– Есть группы, которые можно к нему отнести, – даже жанрово. Те же «Пионерлагерь Пыльная Радуга», «Последние танки в Париже», «Психея», кто-нибудь ещё. Из таких, в смысле, из известных. А из неизвестных – там копать не перекопать на самом деле. С ходу вспоминаю – в Омск приезжали много раз «Jars», очень крутые чуваки, у них нойз-рок. Вот тоже – нойз-рок, это тоже не совсем рок. Наши местные звёзды – «Шумные и угрожающие выходки», которые нинтендо-панк играют, у них есть проект – «Сукин сын» он называется, но он тоже такой гитарный. Он такой... судя по тому, что вы сейчас говорили, вам бы вряд ли понравилось. Но он такой ироничный.
– Ироничный, кстати, это хорошая вещь. Очень ценю.
– В андеграунде точно много всего.
– То есть всё-таки андеграунд. Понятно, такая музыка ушла в андеграунд.
– Не знаю, какие-нибудь «Порнофильмы» несчастные или группа «Louna», про которую я читал, – это вообще смешно, это не рок.
– Хорошо, Ярослав, мы с вами завершаем беседу, и я хотела спросить, зафиналить, что называется: творческие планы. Дурацкий вопрос, но в данном случае, мне кажется, он вполне возможен. Какие у вас творческие планы?
– Они на самом деле вполне конкретные, потому что мы с гитаристом в разных городах живём сейчас и нам надо как-то заранее планировать всё. Мы хотим записать – у нас есть одна новая песня – мы хотим доделать, записать побыстрее. Есть ещё несколько – штуки три – совсем в зачатке, хотим это доделать, чтобы успеть до осени добить, концертную программу сделать побольше. Сейчас у нас 20–22 минуты, а добить хотя бы до 40. И мы хотим ещё поездить, потому что мы в первый раз съездили по Казахстану недавно, в три города. И в Омск приехали поиграли. Я поверил в себя, я перфекционист, очень самокритичный человек, но сейчас я очень заряжен, чтобы дальше двигаться, что-то делать. Поэтому – да, написать побольше песен до осени, когда будет время концертов. Снова куда-то поехать.
– Желаю, чтобы всё получилось.
– Спасибо большое, спасибо за разговор.
– Спасибо.
Беседовала Елена Мельниченко
Читайте также