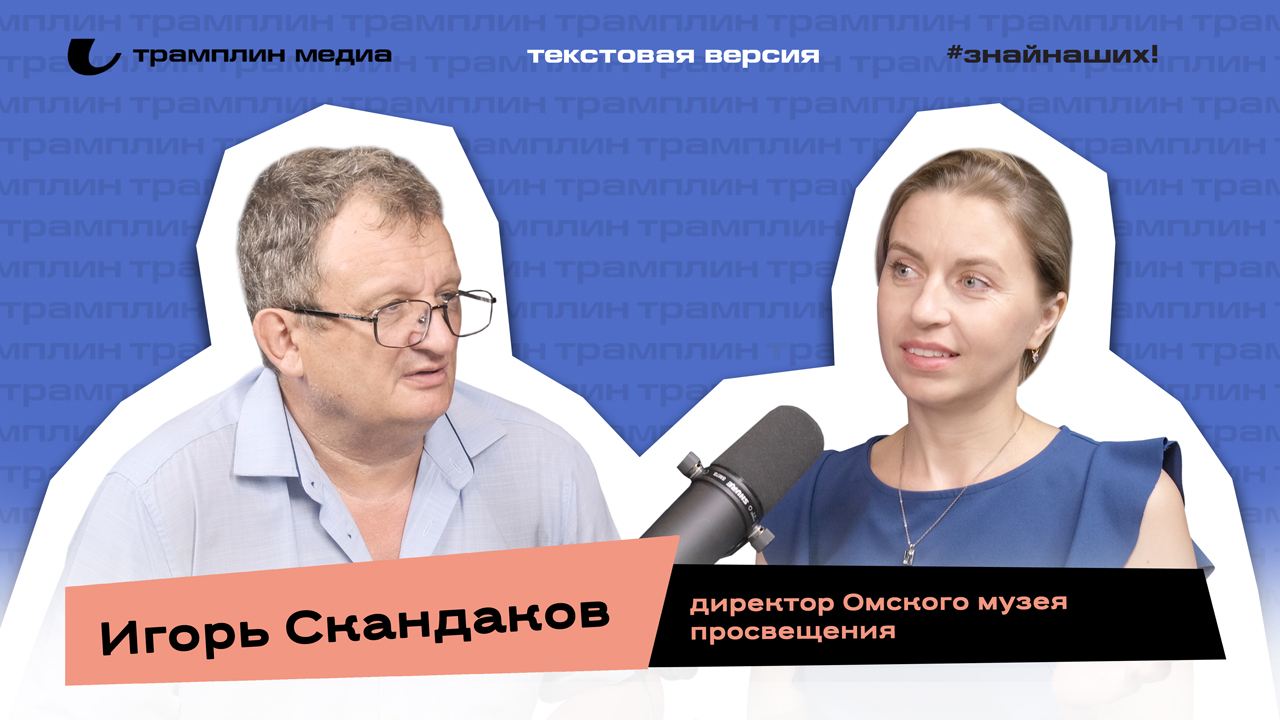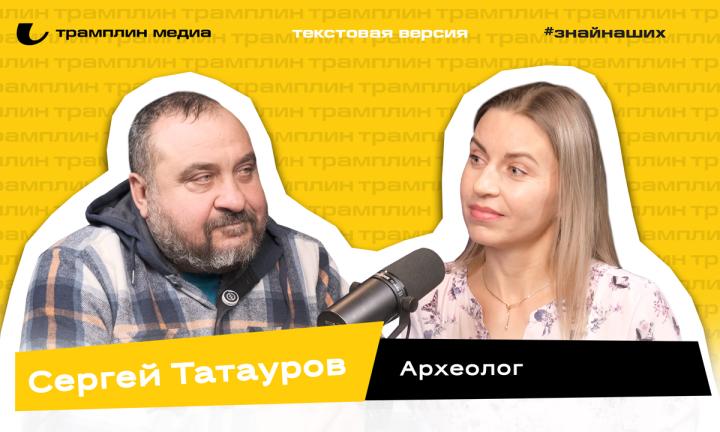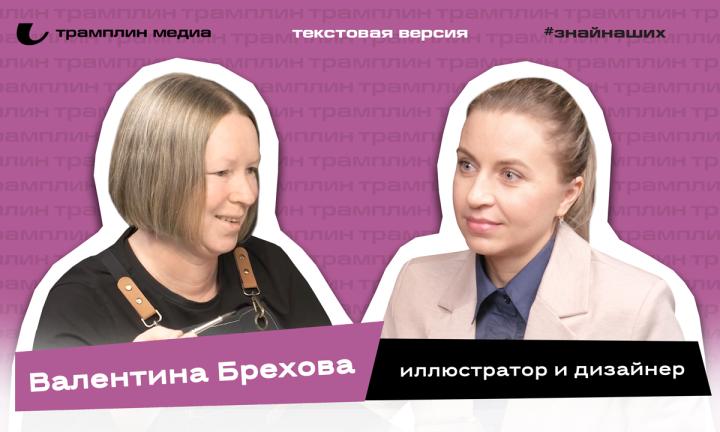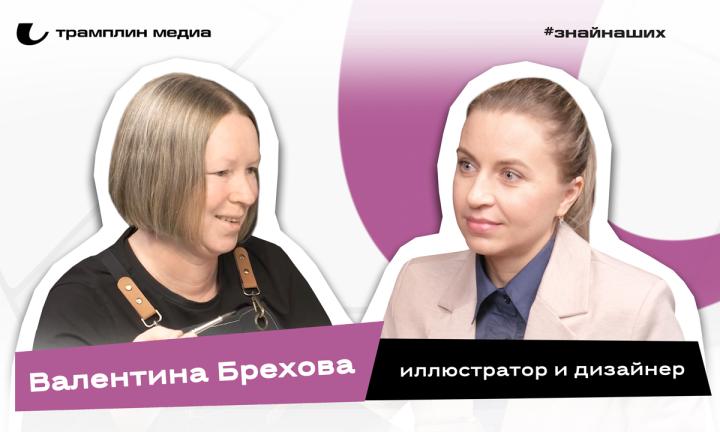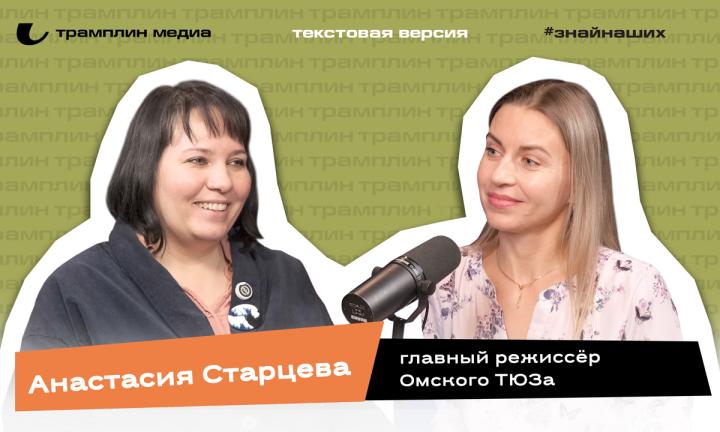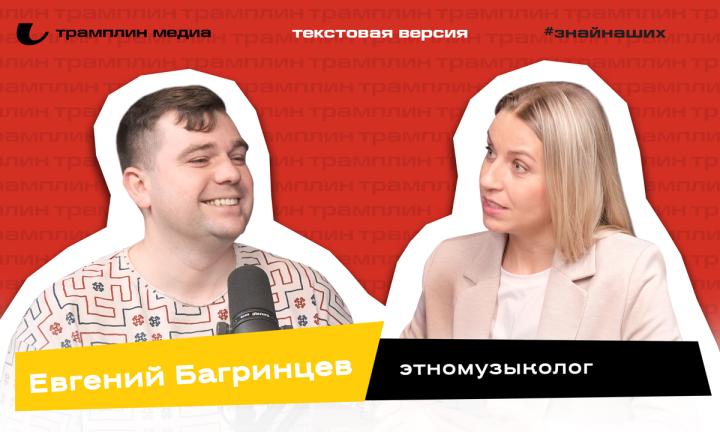Дата публикации: 28.06.2025
— Здравствуйте! Вы слушаете и смотрите подкаст «Знай наших!» на медиа «Трамплин». Приветствую всех! Гость студии сегодня археолог, историк, руководитель Омского музея просвещения Игорь Скандаков. Игорь Евгеньевич, я приветствую вас!
— Здравствуйте!
— Музей просвещения появился при вас. И вы были одним из инициаторов создания музея. Без малого уже 30 лет руководите им. При всём при этом вы ещё и археолог. Не мешает ли одно другому, не противоречит ли? Или, наоборот, помогает?
— Давайте поговорим, насколько археология может быть полезна для музейного дела. На самом деле у меня подход и ко мне, и к моим товарищам и друзьям — надо использовать человеку лучшее, то, что человек знает, достиг, надо попробовать использовать это максимально в своей жизни, в работе. На самом деле музейная деятельность хорошо переплетается с древней историей и с археологией, с изучением древней истории, потому что в исторических музеях, да и в художественных это может быть частью музейного показа, частью экспозиции, частью исследования, как складывалось в самом начале.
Да, мне действительно пришлось готовить все документы по открытию государственного музея. Омский музей просвещения изначально получил наименование Омский музей истории народного образования. Постепенно сложилось понимание, что изменилось народное образование и система, появилась другая терминология, понятийный аппарат, и при переходе в Министерство культуры, — а мы были уникальным музеем — мы были государственным музеем в системе образования с 1998 года по 2007-й, а с 2007-го были переподчинены «культуре» и взяли нынешнее наименование Омский музей просвещения, которое более широко охватывает понимание целей и задач миссии музея.
— Первые экспозиции формировались из личного архива учителей?
— Собирались ещё в конце ХIХ века, и были попытки открытия первых музеев, связанных с историей образования. Небольшие экспозиции были во время Первой мировой войны, после революции, в 1920 году появился научно-педагогический музей. Попытки создания музея, который бы занимался историей образования, историей учительства, какими-то другими, тоже интересными темами, именно в Омской области уходят в конец ХIХ века.
В 1995 году, когда вышел Закон о музеях, общественные ведомственные музеи — такое понятие было изъято из юридической практики, нужно было быть или муниципальным, или государственным, или частным. Поэтому Министерство образования захотело открыть музей по просьбе учителей, которые собирали свои личные архивы и готовы были передать музею, плюс те материалы, которые хранились в течение ХХ века в Институте развития образования (он тогда назывался Институт повышения квалификации работников образования — ИПКРО). Но чтобы дать достойное будущее этим ценным материалам: личным материалам, учебникам, наработкам, фотографиям, личным принадлежностям, всё это должно было стать музейными экспонатами. А для этого должен был быть зарегистрирован музей. Есть Закон о музеях. Там определённые правила, нужен указ губернатора. Слушалось это в конце 90-х годов как что-то невероятное — в эти финансово тяжёлые годы открыть государственный музей… Но мы его открыли! Нам поверил губернатор, за два года (с 1998 года) был создан комплект документов, устав и музей по указу Леонида Константиновича Полежаева. Наверное, последний новый государственный музей в Омской области... Был зарегистрирован Государственный музей истории народного образования. Естественно, и перед этим, и параллельно происходили научные экспедиции и собирался материал.
— И вы участвовали?
— Я работал в педагогическом университете. По эгидой педагогического университета мы совершали археологические экспедиции, получали открытый лист, собирали студентов — практика, школьники. Так вот, материал — он как бы шёл параллельно. Но в этом материале и была история в том числе и учителей. Учителей, которые занимаются историей краеведения.
— Например?
— Иван Фёдорович Шван работал в Дружино, был великолепный археологический школьный музей, выезжал в экспедиции с пединститутом. Александр Рахно, наш учитель, который получил «Пеликана» за свою учительскую деятельность, у него был акцент на краеведение. Он привозил своих школьников в археологические экспедиции, они участвовали, познавали историю своего края от основ, от земли.
— И тоже помогали формировать фонд музея?
— Естественно, археологические коллекции должны по закону собираться и храниться только в музее, и поэтому участники всех экспедиций помогали формировать эту коллекцию.
— Не по этому ли случаю Пётр Петрович Вибе сказал, вы не краеведческий музей, у вас есть свое лицо и своя концепция, и она как-то сразу обозначилась?
— Приятно слышать это от такого мэтра, как Пётр Петрович, и ценно его отношение. С одной стороны, мы музей исторического профиля, краеведческого, но в полной мере собирать и замещать краеведческий музей, собирать все коллекции археологические — перед нами не стоит такая задача. Для этого есть краеведческий музей, где полноценная экспозиция.
Что мы, например, взяли из археологии. Откуда у истории появляются учебники, фотографии, доказательная база по древней истории? Из раскопок. И у нас есть такой проект «От находок к открытиям», когда в экспедиции появляются какие-то очень интересные материалы, учёные начинают изучать, исследовать, пишут научные статьи, потом пишутся учебники, а материалы передаются в музей. Музей их показывает, и у нас есть такие проекты, когда мы показываем находки, потом показываем учебник, о которых в них рассказывается, то есть вот он, путь от находок к открытиям! И поэтому у нас есть много наших партнёров, друзей, поклонников, которые понимают, что нашёл случайную археологическую находку — и они несут её в музей.
— Чаще всего это что, какие предметы?
— Например, с левого берега дачники по дороге шли и нашли каменный наконечник стрелы, красивый, хорошо обработанный, который древние люди использовали и, вероятно, в пойменной части охотились, и он где-то лежал в земле. Дорога, машины... пролежал он несколько тысяч лет, и вдруг человек наклоняется — и увидел.
— И несут в музей просвещения?
— И принесли в музей просвещения!
— А вы?
— А мы дальше с помощью учёных, специалистов определяем время, назначение, ставим на государственный учёт и стараемся вынести в экспозицию, чтобы рассказать, что это такое было, чем служило.
У меня была похожая история с такой находкой. 2000-е годы, экспедиция, Тарский район, река Уй около деревни Крапивка, песчаный берег, тайга. Я смотрю: склон обрыва, нет ли здесь памятников. Наклоняюсь к дороге, и в осыпи нахожу каменный нож, такая каменная пластиночка. Я понимаю, что назначение — нож, потому что есть лезвие, и тут вижу, что на дороге ждёт машину какой-то строитель. Подходит, я говорю, да вот, археология, вот нашёл каменный нож. Он говорит: «О, эта пластинка». Раз — и сломал. Я говорю: да что ж такое-то, пять тысяч лет им пользовались, им резали, и в одну секунду… Мы иногда не осознаём, не понимаем, насколько древний человек проник в природу, в знание материала, насколько хорошо он знал звёзды, небо, ориентировался в погоде, знал особенности материалов. Это же наши предки, которые выжили, которые дали нам гены, небо, знание материала, открытия! Так вот, взял и… сломал нож. А надо было правильно им пользоваться, он служил, он спасал; нож есть нож, он нужен в хозяйстве, но он был каменный. И он выполнял свою функцию на протяжении тысяч и даже, наверное, миллионов лет, потому что первые орудия были каменные. Мы труднее находим заострённые, обожжённые палки, кость, потому что за сотни тысяч, за миллион лет практически всё сгнивает.
— Какие самые интересные находки и в каких экспедициях вам удалось сделать? Что больше всего поразило?
— Первая экспедиция, наверное, меня и «испортила» в том плане, что увлекла, потянула и довела до нынешних дней. Был молодой преподаватель Борис Александрович Коников, который пришёл преподавателем в педагогический институт…
— С него всё и началось.
— Да. В 1976 году… В 76-м году студенты, которые учились у Бориса Александровича, пришли на практику в школу и так увлечённо, со слов Бориса Александровича, рассказали про археологию, что я следом за ними пошёл в пединститут в школьно-студенческий кружок. После 7 класса в 1977 году вместе со студентами пединститута мы поехали… в Окунево.
— Самое благодатное место.
— И всё! Песок, сосняк, добрые отношения с местными жителями. И раскопки. Бронзовое литьё, могилы, тайны, курганы…
— Вас это увлекло уже тогда?
— И всё, я «испортился», да. Так получилось, что уже через пару лет Борис Александрович берёт меня в экспедицию. Я школьник, он меня ставит бригадиром над студентами, потому что я уже опытный археолог, а студенты ничего не знают. И опять — интересные находки, секреты, сохранность, литьё, остьё, какое время, что означает… Единственное, мне всегда хотелось расшифровывать тайны, показывать их. Ну не хотелось, чтоб это всё лежало на полках. И поэтому, когда был в школьном кружке, мы помогали создавать музей пединститута. Когда я поступил в государственный университет на исторический факультет, мы обновляли экспозицию археологического музея университета. Когда я начал работать в пединституте в 1989 году, деканом у нас был Данченко, и он решил обновить музей. Одних находок мне было мало, мне хотелось это показать и об этом рассказать. Удалось воплотить несколько задумок. Мы сделали реконструкцию костяного панциря воина саргатской культуры. Мы придумали, как показать рыбалку. Один из историков — рыболовов то ли купил, то ли выловил большого-большого карася, сварил, каждую косточку аккуратненько отделил, пропитали, собрали: вот как будет выглядеть рыба, а вот крючок, которым его ловили, вот рыболовные снасти. Это такие задумки, чтобы лучше было видно, как пользовались древними орудиями. То есть археология всегда мне была интересна, чтобы её можно было показать, посмотреть, рассказать.
— Всё переплелось?
— Да, переплелось.
— А сегодня какими экспозициями вы дорожите больше всего, какие, может быть, популярнее всего, на что идут посмотреть?
— Омский музей просвещения долго искал своё место. Мы со своими коллекциями, фондами путешествовали до 2014 года по всему городу.
— У вас было много помещений, но не было дома.
— Да. И очень, я считаю, было удачное решение в 2014 году. Государственный центр народного творчества, тоже учреждение культуры, берегло это здание на Музейной, 3. Решением Министерства культуры мы поселились в 2014 году именно там. Уникальность здания в том, что это первое профессиональное музейное здание Омского Прииртышья. Оно построено в 1896-1997 годах для музея Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. Мы продолжатели первого профессионального музея. И нам удалось восстановить крыльцо и на крыльцо у входа сделать копии львов Ши-Цзи, которые стояли с 1896 года на этом крыльце. Потом они в советское время переехали в новый краеведческий музей, стояли около здания генерал-губернаторского дворца, потом их в 2000 году реставрировали, сейчас они в фойе краеведческого музея.
Так вот, с любезного согласия Петра Петровича мы сделали обмеры, копию, и Павел Минин (наверное, это первый проект в Омске нашего теперь известного скульптора) заново слепил львов, мы отлили их из современных материалов и установили на историческое место.
Открою маленький секрет — мы не стремились воспроизвести каждую трещинку, каждую царапинку, и там, где были следы брака или нарушения, мы элементарно сгладили. Это не новые львы, но размеры промерены, пропорции (соблюдены), я наблюдал за всем процессом создания. И ещё хотелось бы выразить благодарность тем людям, которые помогли создать львов. Этот проект был сделан в соединении как государственных, так и частных структур.
— Хороший пример сотрудничества, да?
— Да. Продолжая археологическую тему: у нас небольшой процент археологических вещей в фондах музея. Сотни предметов, а в фондах у нас 30 000. Это небольшой процент археологического наследия, но и площадей у нас немного, поэтому зачастую у нас бывают паузы в показе древней истории: нет места, новая экспозиция... Но сейчас у нас как раз один из вариантов показа древней истории — выставка «Бронзовые «стражи» с берегов сибирских рек», где мы показываем бронзовые орудия, литьё из бронзы разных эпох. Большая часть находок найдена или в Омском Прииртышье, или в Западной Сибири.
— Это то, что касается археологических?
— Да. Небольшая выставка, но даже в ней сплелось много музейных направлений. Первый наш девиз — «От находок к открытиям»: мы показываем, как какие-то находки привели к открытиям уникальных культур, передвижениям народов. Одна из недавних находок в Окунево — случайная: при проведении экологического субботника были найдены три копья размером 42 см!
— Это очень большой размер.
— Огромный! Прекрасной сохранности, датируемые примерно 3,5 тысячи лет назад. Это уникальный сейминско-турбинский феномен. Это когда на территории Алтая, Западной Сибири, Урала и юга европейской части России, в Молдавии находят одинаковые высококачественные предметы, которые связывают иногда с разными культурами, но они объединены качеством, формой, одинаковыми технологиями.
— О чём это свидетельствует?
— До сих пор учёные (не знают) достоверного ответа, как это всё получилось, почему на огромной территории на протяжении почти тысячи лет при существовании других культур, других бронзовых вещей существовала культура, которая имела свою специфику, высокоразвитые оловянистые бронзы, высококачественные наконечники копий, топоры и другие изделия. И Омское Прииртышье в этой истории благодаря музею…
— ...тоже есть.
— Тоже есть! В 1965 году школьник около деревни Ростовка в овраге нашёл каменный топор. Не сломал, не бросил в костёр, не продал!
— Будущий археолог, наверное, был (улыбается).
— Насколько написано об истории этой ситуации, они принесли топор в краеведческий музей и передали. Профессионала в Омске не было, сообщили в Томск. И приехал молодой учёный Владимир Иванович Матющенко, привёз студентов из Томска, присоединились студенты из Омского пединститута, и в районе Ростовки был раскопан уникальный могильник, который принёс десятки бронзовых вещей вот этого культурного феномена. В том числе, допустим, (в Интернете есть) бронзовый нож из деревни Ростовка, где на рукоятке отлита фигурка лошади и человека, который держит её за поводья и стоит на лыжах. Один нож рассказывает целую историю: человек освоил лошадь, он может передвигаться, держась за поводья, на лыжах, у него есть лыжи, скорее, всего, он охотится. И это только одна находка!
— Какие ещё тайны хранит омская земля!
— И этот подход — не скрывать, не продавать, а приносить в музей и делиться — обогащает и нас, и нашу культуру, и наш регион, и отношение к себе и к региону. Мы можем гордиться историей региона! Мы не оторваны от мировой истории. Вы вот говорите, (каковы) самые интересные находки этой выставки. Представлен могильник, которому полторы тысячи лет, точнее, несколько экспонатов из этого могильника, в том числе вытянутый череп.
— Очень интересная находка — причём вытянутые черепа женщин.
— Это была одна из находок. Были ещё предметы, глиняная посуда. Это лежало в пединституте, потом приехали исследователи из Тюмени.
— Удалось выяснить, что это были за люди, кому принадлежали эти черепа?
— За несколько лет в районе деревни Усть-Тавды раскопан могильник, в котором восемь могил. Во всех находились черепа — целые или обломки, но антропологи на всех черепах обнаружили следы искусственной деформации, они были все вытянутой формы (показывает руками). Один из таких черепов сейчас на этой выставке. Практически все черепа взрослых женщин. По остаткам зубов можно сказать, что питание было хорошее, зубы не стёрты, то есть питались хорошо, разнообразно. Значит, это были какие-то уважаемые люди, выполняли важную функцию. Уникальность не только в таком черепе и его внешнем виде, а в том, что это могильник только женщин с вытянутыми черепами, и они в возрасте. Но никаких атрибутов жриц или шамана не найдено. Набор вещей обыкновенный — глиняная посуда, нож, украшения. Каких-то вещей, которые обычно сопровождают захоронения шаманов, не было найдено. Один скелет был захоронен после убийства. Сразу возникает аналогия — какое-то ритуальное убийство или битва, сражение.
— Но и говорить о том, что была практика искусственной деформации черепа, такого тоже невозможно было сделать?
— С младенчества, натягивая повязку через лоб и затылок, не давая черепу расти в эту сторону, поэтому он рос вверх, кости вытягивались вверх. Не было, не было, и вдруг в одном месте вытянутые черепа…
— Больше не находили нигде?
— Отдельные, не в могильнике, в разные эпохи, в Западной Сибири находили деформированные черепа. Но чтоб очень похожие, одной культуры, в одном месте — это уникально. И такого отдельного могильника с вытянутыми черепами я не знаю ни в Сибири, ни в европейской части. То, что такие черепа находят, — да. Они обычно в могильниках с другими. Единственный вывод — скорее всего, это последствия гуннского нашествия, прохождения гуннов. Знаменитые гунны, которых мы знаем, в IV веке (Аттила) Европу «покрошили», великое переселение народов... Так вот, они прошли через наши лесостепи, в том числе Западной Сибири, и ушли дальше. И вот их след фиксируется в отдельных находках в Новосибирской области — в захоронениях гуннов. В Новосибирской области было найдено захоронение начальника-гунна с вытянутым черепом, а в Омском Прииртышье чуть попозже. Мы датируем это захоронение примерно V веком, то есть последствия гуннского (нашествия): то есть кто-то, носители этих знаний, этой культуры, традиций, потому что это же младенцы, это только что рождённые дети, и неправильное сдавливание — неужели население будет убивать своих детей ради каких-то экспериментов?! Значит, должно быть достаточно уверенное знание, которое приводит к выживанию, иначе бы, наверно, и племени не было бы, все дети умирали бы.
— Да, убеждённость в том, что это надо делать.
— На самом деле (здесь) много сослагательного, предположений. Сейчас самая интересная древняя находка — это кость древнего человека homo sapiens. Наш Николай Перистов, резчик, который резал из кости фигуры, ездил в экспедиции, собирал кости.
— Где-то на берегу Иртыша?
— На берегу Иртыша где-то в Усть-Ишимском районе собирал кости для своей резьбы. В этот набор костей попала кость, на которую он не обратил внимания. Но увидели антропологи, изучали её специалисты из многих стран. Выпущена официальная научная статья, где сумели датировать, выделить ДНК и определить — это одни из древнейших homo sapiens, человек современного вида, не предок homo sapiens, а именно нынешнего вида homo sapiens, с большой примесью неандертальцев, и датируется примерно 45 тысяч лет назад. Когда я учился, и до сих пор и в книгах, и в учебниках можно встретить, что самым древним представителем homo sapiens были кроманьонцы (Кро-Маньон во Франции), — 40 тысяч лет назад. У нас: 45 тысяч лет назад, Омском Прииртышье!
— Вот так! Где хранится сейчас эта кость?
— Она хранится, насколько я знаю, в Тюмени, где специализированный институт, антропологи. А в Омске есть копии этой кости. Есть научные статьи. Это про истории и мифы омичей. Ну и ещё один миф — сколько лет Омску.
— После археологических находок Татаурова, наверно, возраст Омска будет больше?
— До Татаурова — мифы, легенды, разговоры про древний город Асгард. (Если) добавить подтверждение древности Омска — это Омская стоянка 1918 года, когда её активно раскопали и первые находки поступили в краеведческий музей. Но в течение ХХ — начала ХХI века неоднократно были раскопки, выпущены книги, хранятся материалы в краеведческом музее. Так вот, мы можем датировать первые поселения, первые находки временем 10 тысяч лет назад.
— То есть Омску 300 лет — это имеется в виду просто образование как административной единицы?
— 300 лет связаны с историей русского освоения, с историей Петра, с историей, когда, наверное, началось беспрерывное освоение этой территории. Ну вот мы упомянули раскопки на территории Омска. На территории правого берега Иртыша в устье Оми при строительных, разведывательных работах неоднократно находили поселенческую керамику, относящуюся к эпохе бронзы, — 3000 лет назад.
— Миф это или правда?
— Это правда!
— Мы так сильно уже углубились в древность, что забыли про сегодняшний день. Хочется ещё поговорить про партнёрство музея просвещения и церкви. Это какое-то уникальное партнёрство и в России, и, может быть, в мире. Как вам это удалось и в чём оно выражается?
— Действительно, в Омском музее просвещения коллекция древней истории небольшая, но получилась настолько яркая, мы столько времени ей уделили и не рассказали про коллекцию учебников, про истории людей, про разные науки — геологию, химию, физику. Сейчас замечательная выставка по химии. В части понимания нашей миссии и концепции — мы понимаем Омский музей просвещения как триединство образования, воспитания и культурно-исторических традиций. В части духовного просвещения это в том числе религиозное, духовность в церкви, связанная с верой. Это и традиции, которые скрепляют. Поэтому оказалось, что концептуально духовное просвещение, история церкви, церковное образование может быть нашей частью.
Ну, тут ещё археология приплелась (эмоционально всплёскивает руками). Когда был создан Фонд по воссозданию Успенского кафедрального собора и необходимо было археологическое наблюдение, ваш покорный слуга был приглашён археологом-наблюдателем. Но так как я ещё и музейщик, мне было интересно, не просто что находят, — а можно ли как-то это использовать. И потом, когда начались раскопки (в том числе был объединённый строительный отряд, участвовавший в поиске фундамента), вместе со студентами, с рабочими начали собирать маркированные кирпичи, архитектурные детали, очень внимательно смотреть и аккуратно расчищать там, где сохранились остатки фундамента. При поиске фундамента и раскопках, казалось бы, церковного значения археология и музейное дело помогли показать ценность того, что сохранилось после взрыва. И многие архитектурные детали послужили архитекторам для воссоздания вставных элементов в архитектуру храма, использования орнамента, который мы нашли в земле. И благодаря вот такому внимательному подходу в использовании археологических методов удалось обнаружить захоронение священнослужителя.
— С 2005 года началось такое сотрудничество?
— Да. Сказались мой опыт и музейщика, и археолога и очень грамотная позиция владыки Феодосия. Он максимально открывался для общества. Будучи очень авторитетным священнослужителем, очень глубинным, он был очень открыт обществу. Когда встал вопрос, что мы нашли яму, в которой следы гроба, частички ткани, владыка Феодосий принял решение не ограничивать публичное присутствие телекамер, журналистов, чтобы это не было какой-то скрытой тайной церкви, чтобы было доверительное отношение общества. А во-вторых, были использованы музейные методы, потому что мы привлекли реставраторов, которые найденные материалы промывали и делали первичную консервацию.
— Я знаю, что на работы благословил митрополит, причём не только митрополит Феодосий, но потом уже и Владимир, и Дионисий.
— Да. Первоначально важным был момент, что раскопки проводили в присутствии священника, но проводили светские люди. Для того чтобы (всё было) максимально публично и доказательно, все останки археологи записывали, прокурорский работник записывал, и было возбуждено уголовное дело, для того чтобы официально дать заключение по останкам. Было понимание, что это церковнослужитель. Можно было сказать: до свидания, мы забираем, мы прячем, закапываем и что хотим, то и скажем. Здесь была позиция максимально публичная — как могло оказаться тут это захоронение, кто захоронен? Потому что первоначально это была фантастика, что найдено захоронение священномученика Сильвестра. В момент раскопок захоронение было неизвестно, но он был причислен к лику священномучеников в 2000 году. 2005 год. Тайное захоронение. Свидетельство, что это священник, и потом пошли многие находки, которые подтвердили, что это священник высокого ранга. Затем на иконе надпись: Сильвестр. И когда экспертиза показала, что останки, возраст, болезни совпадают, и они убедительно доказали, что да, по возрасту, по останкам это священномученик Сильвестр, неожиданно появляется фотография 1920 года Сильвестра без головного убора. Её нашли юные краеведы вместе с преподавателем в музее. И она послужила для криминалистической экспертизы, когда на череп накладывается фотография. И это тоже подтвердило — да, это Сильвестр. Я не буду дальше рассказывать подробности, это может занять весь день…
— Как сегодня готовитесь к 20-летию этих раскопок и обретению мощей?
— Государственный музей хранит и представляет ценности, найденные при раскопках Успенского собора, и говорит об обретении мощей священномученика Сильвестра, об архитектуре храма, о тех, кто служил. Эта выставка постоянная и действует в цоколе Воскресенского военного собора.
Этот год оказался богат на юбилеи — в этом году 130 лет Омской епархии, 20 лет со дня начала раскопок, обретения мощей священномученика Сильвестра, в этом году 165 лет со дня рождения Иустина Львовича Ольшевского (Сильвестра). То есть много памятных дат. Мы в партнёрстве с церковью вместе с духовной семинарией, с преподавателями и студентами иконописного отделения в музее омского музея просвещения, который находится в Воскресенском соборе в цокольном этаже, открыли выставку икон новомучеников, обновили экспозицию. 20 июня в Омском музее просвещения мы открыли выставку про историю воссоздания Успенского кафедрального собора на Музейной, 3. Вместе с духовной семинарией, Омской епархией в сентябре мы представим информацию и в Успенском соборе.
— Вы пришли не с пустыми руками. Что это сегодня? (показывает на буклеты на столе)
— Мы с вами говорили, и я сам удивляюсь, сколько у нас в музее накопилось проектов! Это ещё одно направление деятельности, проект музея, где опять переплелось и музейное дело, и археология, и искусство, профессиональные исследования археологов и реставраторов и профессиональная работа музейщиков. Одной из тем Воскресенского собора оказалась — а кто же посещал его? Цесаревич Николай по приезде в Омск...
— который заложил, кстати, камень в основание Успенского собора.
— Да-да-да. Он был и в Воскресенском соборе. Иоанн Кронштадтский молился в храме, Колчак, здесь крестили Врубеля, Карбышева. Достоевский в Омске. Что мы знаем? Замечательный наш литературный музей, здание дома коменданта, где, возможно, он бывал. Комендант был знаком с ним, он помогал Достоевскому, когда он здесь у нас отбывал наказание. Выясняется, что сохранилась часть степного бастиона, в котором располагался каторжный острог, в том, в котором сидел в середине ХIХ века Достоевский. И когда были земляные работы в 2015 году, была обнаружена кирпичная кладка. Жители дома спровоцировали интерес Общества охраны памятников (ВООПИК) и с помощью добровольцев начали вскрывать и обнаружили, что идёт кладка. Эта кладка хорошо легла на чертёж реконструкции острога 1847 года. Этот чертёж обнаружил в архиве Виктор Соломонович Вайнерман, наш исследователь, литератор, директор музея Достоевского. Чертёж укладывался в те найденные места. И так получилось, что музей с 2021 года пытается делать научные раскопки, детально подтвердить, а может быть, и найти какие-то экспонаты на месте острога. И с 2022 по 2024 год, и сейчас уже пятый год, в этом году продолжатся раскопки с Омским научным центром. Мы начали раскапывать территорию острога и выявили все контуры кухни-столовой времён Достоевского. Так сказать, в подполье, в культурном слое были найдены монеты как ранее существования острога, так и времён Достоевского. Был найден свисток надзирателя середины ХIХ века.
— Он сохранился?
— И металлический колокол с бронзовой ушкой. Возможно, этим колоколом звали в столовую, подавали сигнал, что ужин/обед готов.
— Интересные находки.
— Глиняная посуда, в том числе остатки трёх пиалок, достаточно грубо сделанные, много глиняной посуды и других мелких вещей. Но на эти раскопки, которые вели профессиональные археологи, наложилось наше музейное представление: давайте делать так качественно, чтобы было понятно. И поэтому археологи начали консервировать кирпичную кладку, чтоб было видно: а-а-а, это фундамент кухни! И тогда появились стенды, которые мы, музейщики, сделали: информацию про Достоевского, про острог, про каторжные остроги, как он сидел, схема, и разместили в этом месте. И получился такой музей под открытым небом, музейный комплекс со стендами, с остатками реального фундамента, казармы и кухни.
— Всё это можно увидеть сейчас?
— Сейчас на улице Петра Некрасова за драматическим театром находится не до конца разрушенное место степного бастиона, в котором располагался каторжный острог. Большая часть фундамента каторжного острога вскрыта, стоят стенды, пояснения, информация. Это можно посмотреть без экскурсовода. Можно заказать экскурсию, Омский музей просвещения проводит их. Мы можем провести экскурсию и готовим её на следующий год, чтобы это была уже богатая, интересная, дополнительно подготовленная экскурсия.
— Приурочите эту экскурсию и вообще этот проект к…
— «Омск — культурная столица»! Мы будем презентовать туристический проект, связанный с именем Достоевского «Земля Достоевского. Омск»: Воскресенский собор, где он молился, острог, где он сидел, и летние палаты, где он проходил лечение, находясь в каторжном остроге: его отправляли много раз на лечение. И именно фельдшеры Омского госпиталя времён Достоевского помогли ему сохранить «Сибирскую тетрадь», куда он записывал интересные слова, истории и использовал потом в своих произведениях.
— Много всего интересного. Не будем раскрывать всех карт. Будем ждать начала этого проекта. И — чтоб всё сложилось! Спасибо вам за беседу! Спасибо, что пришли.
— Спасибо!
Полную версию видеопдкаста можно посмотреть здесь.