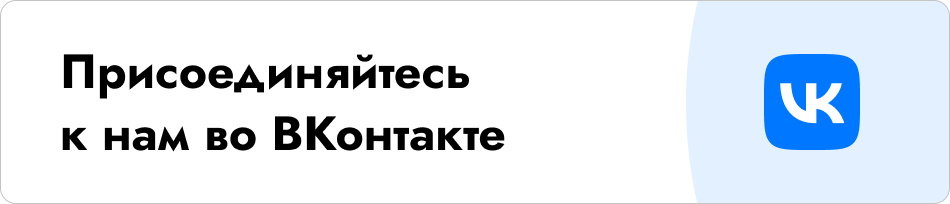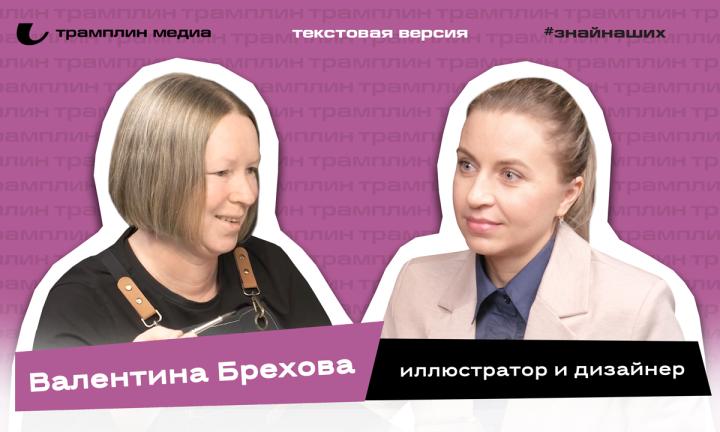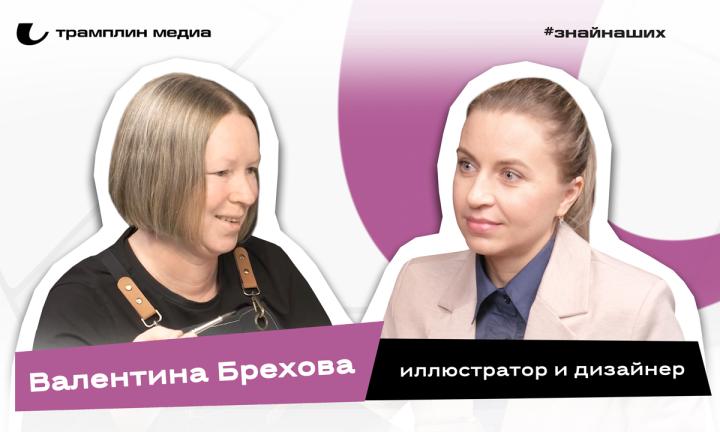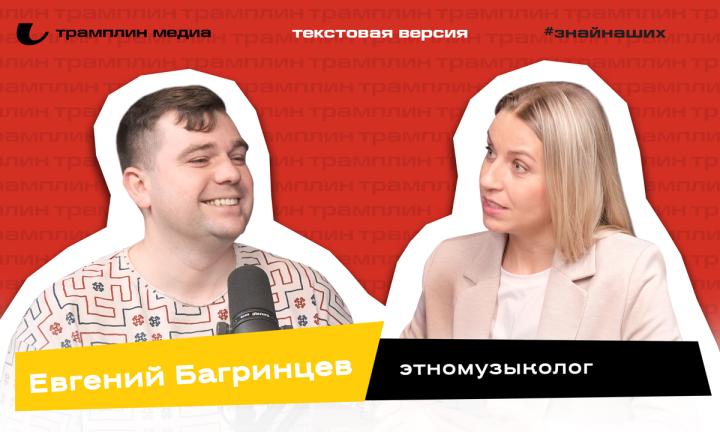Дата публикации: 21.10.2023
Для тех, кто любит читать, текстовая версия подкаста «Знай наших!» с Виталием Сосоем.
– Это «Трамплин» с подкастом «Знай наших!», и сегодня у нас Виталий Сосой – актёр Омского ТЮЗа, ведущий мастер сцены. Здравствуйте.
– Здравствуйте.
– Актёров у нас бывает немного, по сути дела, вы первый. Поэтому будет очень любопытно поговорить про эту театральную кухню, про актёрскую жизнь. Сейчас начну вас спрашивать.
– Давайте.
– Сначала скажу для наших слушателей, что окончили вы Щепкинское училище. Довольно столичная история. Но вы вернулись в Омск.
– Совершенно верно, да.
– Я позже задам вопрос, почему вы вернулись в Омск, а сначала, конечно, хочется узнать, почему вы пошли в актёры? Я знаю, что на самом деле у вас была другая первоначальная мысль – математика, физика.
– Конечно. Но ведь это совершенно юный возраст. А решение пойти в актёры было принято уже вот...
– Во взрослом?
– Нет. Как раз тогда, но просто если всю свою детскую, юношескую сознательную жизнь я как-то шёл в русле точных наук и в каком-то инженерном направлении – я учился в инженерном классе – то в последние годы, в старших классах... А, я ещё имел неосторожность писать сочинения неплохо! И именно поэтому учительница по литературе рекомендовала мне пойти в театральную студию, которая позже выросла в Лицейский театр. Я туда пришёл к Вадиму Станиславовичу Решетникову, мне очень понравилось. По выражению самого Решетникова, «в театр не приходят, в театр попадают как под трамвай». Со мной это попадание, видимо, произошло, потому что не сразу, не с первой репетиции, наверное, даже не с первого года моих занятий театром, но где-то, может быть, через годик – у меня появилось желание, потом оно росло, крепло, и к окончанию школы оно уже было таким... твёрдым.
– Как ваши родители восприняли известие о том, что вы собираетесь пойти в актёры?
– Там было условие: непременно поступить сначала в технический университет, потому что класс был у нас очень серьёзно относящийся к нашему физико-математическому и компьютерному образованию. Мы три дня в неделю занимались в политехе – спецпредметы были там, вели университетские преподаватели. И выпускные экзамены из школы были вступительными в политех. То есть я мог досрочно их сдать. Я выполнил это условие.
– Поступили?
– Да. Я сдал благополучно. На зачисление я уже не приходил, потому что поехал и поступил в то место, куда у меня душа рвалась.
– Не знаю, мне кажется, родители должны были быть разочарованы. Они представляли себе в своих мечтах – их сын инженер, серьёзная мужская специальность.
– Конечно. Они интеллигентные люди у меня, поэтому я не сразу понял, что они недовольны.
– Деликатные.
– Да. И я понял их недовольство. Но степень этого недовольства я себе не представлял. Потом уже, когда я был взрослым, даже сильно взрослым, то есть не в 20 лет и, по-моему, даже не в 30 – но какие-то другие родственники мне начали говорить: «А ведь родители-то у тебя были против». Я говорю: «Как?» Они: «Ну, вот они сильно не хотели». Я говорю: «Может, не так сильно». Но они уважали моё мнение, мой выбор. Всё произошло именно так, как произошло.
– У меня была история – я собиралась лет в 18, у меня был друг, который мне говорил: «Слушай, ты такая артистичная, тебе нужно поступать в театральное». И даже в Ленинград поехать, там педагог набирал, и я пришла к отцу. Отец у меня был самодеятельным актёром при Дворце завода имени Баранова. Мне казалось, что сейчас приду, скажу ему – и он порадуется, обнимет меня и скажет: «В добрый путь, дочь». Он посмотрел и сказал: «Зачем?»
И всё, моё желание на этом испарилось, никуда я не поехала. А у вас – всё-таки вы пошли.
– Знаете, на самом деле очень многие молоды люди – и я в том числе – когда выбирают профессию актёра, они не понимают, что это за профессия.
– Конечно.
– Людям нравится театр, нравится, может быть, конкретно тот театр, куда они ходят заниматься, тот любительский коллектив. Ведь в профессиональном театре совсем не так. И конкретно актёр – это профессия. То есть это не ты пришёл, творчеством позанимался...
– Когда захотел, да. В свободное время.
– Ну, даже когда не захотел – всегда пришёл, это и в любительском театре тоже так. Надо этим гореть, надо этим жить, надо всё своё свободное время (или почти всё) посвящать этому. Любительские коллективы так живут, но это больше тусовка. А здесь – больше работа. Театр это завод, да.
– Вы говорите, когда человек собирается пойти в актёры, он не знает, что это такое. Потом приходит и узнаёт. У вас этот процесс узнавания каким был?
– Это был процесс, это был процесс долгий, и я думаю, что он даже и сейчас ещё не завершён.
– Но были какие-то иллюзии, с которыми распрощались?
– А как же!
– Болезненные?
– Да, разумеется.
– А пример?
– Многие самые радужные иллюзии уже давно ушли, поэтому сейчас я, может быть, как-то не очень точно расскажу. Пожалуй, то, о чём я говорил, просто какими-то более общими словами.
– Что это в общем – завод?
– Нет, может быть, даже не совсем завод. Когда человеку, который хочет стать актёром, говоришь: «Понимаешь, там надо работать, это пахота, хочешь-не хочешь...» А он: «Да, я буду, я хочу, я именно так хочу, я к этому готов!» И я был готов, и действительно многие к этому готовы. Но бывает же такое, что ты не совсем полноценно, скажем, участвуешь в процессе, ты приходишь, тебе режиссёр говорит: «Надо так, так и так». Ты говоришь: «А почему?» Он: «Слушай, не мешай, уйди!» И всё, ты остаёшься с этими вопросами, в то время как в театральной студии вы вместе посидите, вы выслушаете мнение каждого. Ну так там и спектакль ставится в течение года. Год репетируют – и раз, сыграли. Хорошо!
– Вы сейчас говорите об узнавании того, что профессия актёра – это очень зависимая профессия? Что там нет свободы?
– Есть.
– Свобода есть, но в рамках?
– Сам вот этот термин «зависимость»/«независимость» – на самом деле очень сложное понятие. Есть рамки, но точно такие же рамки есть и у режиссёра, и у директора, и у любого человека, у любого руководителя.
– Я поняла вашу мысль. Насколько широки эти рамки?
– Это не одномерное, не двумерное понятие, если говорить о плоскости. И даже не трёхмерное, а какое-то многомерное понятие – зависимость/независимость, свобода в этих рамках. Потому что так, по большому счёту, актёр на театре – это самая свободная профессия.
– По сравнению с тем же режиссёром, например?
– Что может сделать режиссёр без актёра? Ничего. Что может сделать актёр без режиссёра? Он может выйти и сыграть то, что он умеет, прочитать какие-то свои стихи. Ну, не свои, а свои любимые стихи.
– Понятно.
– На самом деле режиссёр Владимир Иванович Немирович-Данченко то ли говорил, то ли писал, я это читал, но лично мы с ним не жили в одно время. «Что такое театр? Театр – это два актёра, которые вынесли, расстелили коврик, вышли на него и начали играть». Вот и всё. Не упоминаются ни режиссёр, ни драматург даже, не говоря уже о каких-то других людях театра. Но начинается всё с того, что коврик постелили. Можно и без коврика, кстати, и можно не два актёра, а один. Но должен быть актёр. Чтобы актёру как-то было лучше работать, чтобы более полно себя он проявил, более точно что-то сделал – он себя со стороны не видит – нужен режиссёр. Вот режиссёр появился. Чтобы как-то зритель узнал о том, что есть некое действо, какой-то спектакль – и его можно будет посмотреть в такое-то время в таком-то месте, нужна PR-служба.
– То есть это такая коллективная, командная работа.
– Разумеется. И в этом смысле, конечно, актёр – профессия зависимая, потому что у меня сегодня есть вдохновение, я буду играть, а завтра у меня нет, и я не буду – такого просто быть не может в профессиональном театре. Но то же самое можно сказать и про режиссёра.
– Про любого, конечно.
– То есть это такая команда. Есть маленькие театры – маленькие команды, есть театры из двух человек состоящие, а есть театры большие, тем не менее это одна команда, один коллектив, они движутся в одном направлении и делают общее дело.
– Вы ведь сразу поступили? С первого раза?
– Да.
– Толковали вы это как знак того, что пошли в выбранном правильном направлении?
– Конечно! А как же! Я гений, да. Но когда я проучился два курса, я приехал сюда на летние каникулы и в какой-то момент ночью проснулся и понял, что надо уходить, надо уходить, всё. Я принял решение. Утром я встретился с Решетниковым, говорю: «Вадим Станиславович, я принял решение – я ухожу из училища». Он говорит: «Ну и дурак». И я тут же принял другое решение.
– «Я был непоколебим. Твёрд в своих намерениях». И тут же принял другое решение.
– Естественно, когда я только поступил, мне казалось, что всё, наконец-то мир меня признал. На самом деле только началась вот эта работа приобретения профессии. Оно было очень сложным, иногда болезненным.
– А почему вы решили, что уйдёте?
– Ой, сейчас я уже не помню.
– То есть что-то юношеское и мимолётное.
– Да.
– Сколько вы учились в училище?
– Четыре года.
– Что это вам дало? Что дала учёба? Какие педагоги у вас были?
– Руководитель курса – Юрий Мефодьевич Соломин, народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра. Он был худруком нашего курса. Надо сказать, он приходил на курс, и такое бывает среди известных артистов. Они дают курсу имя, и кроме имени не дают ничего, даже своего присутствия. Нет, Юрий Мефодьевич у нас бывал, он не был на каждом занятии, но там целый штат педагогов – было несколько, в разное время разное количество. Было кому работать, но и в том числе он тоже приходил и занимался нашим обучением.
Из известных – тогда ещё этот человек не был широко известен, а сейчас его многие знают – Всеволод Борисович Кузнецов. Он тоже вёл у нас актёрское мастерство, он тоже ученик Соломина, но только несколькими годами ранее.
Михаил Семёнович Шевчук, это постановщик трюков, тоже каскадёр и постановщик боёв. В фильме, допустим, «Сибирский цирюльник» все драки, бои – его постановка. Он вёл у нас фехтование.
– Фехтование – такая интересная история. Что даёт фехтование актёру? Реакцию?
– Какую-то точность. Там же всё равно первичен внутренний мир, а тело – выражает то, что у тебя внутри. И бывает, что у тебя внутри всё очень красиво, точно и здорово, а тело – оно это выразить не может. Фехтование воспитывает определённую физическую форму, учит тебя каким-то движениям. Многие вещи на самом деле для меня в училище касательно фехтования открылись, то, о чём я даже не подозревал, даже не думал, что это так. Например, фехтование – это в первую очередь не руки, это в первую очередь ноги. Стойка, какой-то удар, который ты наносишь, – надо дотянуться до противника, тянуться не телом, а ногами подойти и просто руку вытянуть. Когда тебя колют, ты просто можешь не успеть шпагой поставить какую-то защиту, но ногами ты должен успеть уйти. Это игра, кто кого переходит, обыграет ногами, на самом деле в первую очередь вот это. Первые занятия у нас так и были: мы приходили, делали приветствие рапирами спортивными, звучала команда «Ан гард!», мы вставали в стойку и полтора часа – одну пару – мы ходили: шаг вперёд, шаг назад, два шага вперёд, выпад, туда-сюда, противник сзади – и всё в этом полуприседе. Ходишь потом, идёшь...
– Болят ноги, мышцы?
– Да, да, конечно.
– Почему вы вернулись в Омск после окончания училища? Пришли в Лицейский театр, я понимаю почему. Вы пришли туда, потому что оттуда уезжали.
– Так я поэтому и приехал.
– То есть именно в Лицейский театр вы вернулись. Не хотелось остаться в столице?
– Нет. Мне сразу не хотелось. Я сразу приехал.
– А как же амбиции актёрские?
– Это парадокс.
– То есть все актёры довольно честолюбивы, это нормально.
– Наверное, я не хотел стать какой-то суперзвездой в том плане, чтобы быть в столицах, быть на обложках журналов и в главных ролях всех фильмов. Пожалуй, такого желания у меня не было. Это было не главным.
– Фигура Решетникова для вас имела большое значение?
– Поскольку театр, Лицейский театр – это его детище, то если я сейчас скажу, что нет, мне сам он был не важен, а важен был театр – это неправда, потому что театр он как считал нужным, так и создавал, с нуля, выращивал.
– Театр – это человек. Конечно.
– Так что, конечно, там всё было. По-моему, в какой-то степени до сих пор – из его личности созданный. И конечно, какие-то иллюзии были. Иллюзии, такие розовые очки, потому что, когда я уезжал в Москву на учёбу, там начиналась пахота, всякие трудные моменты, преодоление чего-то. Было тяжело. Когда я приезжал сюда на каникулы, здесь было легко, здесь были друзья, я приходил в театр... Ну, всё было так здорово. И у меня, видимо, такое заблуждение сформировалось, что здесь вот так хорошо, а там так плохо. Конечно, я хотел сюда. И когда я сюда приехал, а здесь тоже оказалось, что надо работать, – это такой сюрприз. И тоже не всё получается, причём далеко не всё. На самом деле, мне кажется, мы взаимно как-то так разочаровались. В чём моё разочарование, какое-то открытие и снятие розовых очков было, я сказал. А Решетников считал, что я сейчас приеду такой с московской театральной школой и тут как всем покажу, тут как всем сыграю, как всех научу! А по большому счёту – где бы ты ни учился, ты оканчиваешь, приходишь в театр, и там только учёба и начинается. Я приехал, от меня ждали, а я не соответствовал, короче говоря, ожиданиям. Поэтому в течение первого сезона мы расстались, я ушёл.
– В «Пятый театр»?
– Нет. Я ушёл в ТЮЗ.
– А, да. Вот 2002 год, Омский ТЮЗ.
– На тот момент в Лицейском театре работал Александр Гончарук, мы там познакомились, и он меня в ТЮЗ как-то и привёл, с ним я пришёл в Театр юного зрителя.
– Но не задержались?
– На два сезона.
– Это много?
– Это в тот момент, в тот период – много. Мне показалось, что я очень сильно изменился за эти два сезона, что я прослужил в ТЮЗе. Пожалуй, это действительно так. У меня там появились роли. В Лицейский театр я пришёл – я ничего сыграть не мог. Ну и ещё такие профессиональные моменты: там сцена маленькая...
– Камерная.
– Очень! А мы выпускались – 3, 4 курс – мы играли на достаточно большой сцене. Она тоже камерная по таким меркам, но всё равно... У нас было в Щепкинском училище, там Ермоловский зал – он большой, я даже не знаю, сколько там мест, может, 200 или 150, но это большая сцена, это такой длинный зал – и вот здесь вот маленькая такая уютная обстановка. У меня приёмы все наработаны широкие, потому что там говорили: «Что ты там играешь, тебя не видно, не слышно! Давай громче, давай шире жест». И всё, у меня широкие жесты...
– Я не вхожу на сцену. Не вмещаюсь.
– Да, я не вхожу, я выхожу. Ты что тут наигрываешь! А потом пришёл в ТЮЗ, там всё в порядке было со сценой.
– Совпало.
– Там большая сцена, да. Нет, там тоже были сложности, там тоже приходилось многому учиться, учиться заново, с нуля. Я опять понимал, что я ничего не умею. Я благодарен училищу, что заложили какой-то вектор развития. Нам так и сказали, от нас не скрывали, что «вы придёте – и вам придётся учиться». Даже если вы попадёте в плохой театр, там всегда, обязательно есть хоть один хороший актёр – учитесь у него. Много таких жизненных правильных вещей и профессиональных правильных вещей было заложено там, посажено. И это потом стало расти, и уже задача каждого – эти ростки как-то взлелеять, чтобы они окрепли. Я думаю, что, наверное, не на сто процентов, какие-то ростки зачахли – но какие-то всё-таки выросли.
– У вас с Омским ТЮЗом – смотрю, вы так приходили, уходили... И сейчас намерены задержаться?
– Да, намерен. Я каждый раз был намерен задержаться. Нет, кроме первого раза, пожалуй. Потом, когда я вернулся в ТЮЗ после «Пятого театра»... Да, я пришёл в ТЮЗ с серьёзными намерениями. Сейчас тоже с ещё более серьёзными. Но сейчас ТЮЗ очень сильно изменился по сравнению с тем...
– За 20 лет? По сравнению с первым приходом?
– И с первым. Потом ТЮЗ тоже менялся, пришёл Владимир Юрьевич Ветрогонов, был долгое время главным режиссёром. При нём ТЮЗ стал не таким, каким он был без него. Потом после него... Но после него я уже ушёл, я не могу комментировать ситуацию изнутри. Но это были какие-то изменения, которые происходили, но в общем – если говорить о какой-то моей созвучности, резонансности – колебания у меня в душе и колебания, которые были здесь, они как-то не очень совпадали. Что-то нравилось, даже многое нравилось, что-то – нет, не вызывало какого-то отклика. А сейчас – вызывает. Сейчас я не могу сказать, что мне нравится всё, какие-то вещи мне не нравятся. Но, во-первых, я год прослужил, что-то мне не нравилось, я даже думал, что придётся с этим мириться, а тут раз – и произошли какие-то изменения в течение этого сезона, и тех минусов, с которыми я был готов мириться всю оставшуюся жизнь, их не стало. Они как-то изменились, что-то произошло – или их не стало, или они превратились в плюсы. Я думаю, процесс идёт. Театр вообще дело живое. Вряд ли мы достигнем идеала, но то, что мы движемся примерно в том направлении – у меня есть стойкая в этом уверенность.
– Анастасия Старцева о вас: «Открытый, позитивный, улыбающийся и всегда погружённый в материал актёр – это, кстати, находка для режиссёра, сейчас редкость такое актёрское качество».
– Так.
– Не знали?
– Нет, я знал. По-моему, это был пост в группе ТЮЗа про мой день рождения. Кажется, это она оставила такой комментарий там.
– Да. Согласны ли вы с этой оценкой? Как вам удаётся оставаться погружённым в материал?
– В материал надо погружаться постоянно. Понимаете, материал всегда разный. Мы выпустили «Преступление и наказание» – вчера и позавчера у нас было два премьерных дня. Вот в него надо погружаться. Сейчас репетируется произведение «Сорок чертей и одна муха», можно же об этом говорить?
– Спойлер!
– Это другой материал, в него тоже надо погружаться. То есть это не так, что ты где-то загрузился и в нём сидишь.
– Тогда нужно пояснить, что такое погружённость в материал – на примере «Преступления и наказания». У вас там роль доктора?
– Ну да, такая небольшая роль. Тут на примере будет сложно, дело не в «Преступлении...», а дело просто в конкретном примере.
– Давайте другой возьмём.
– Давайте абстрагируемся от любого примера. Берётся в работу пьеса или какое-то литературное произведение, короче, какой-то материал берётся в работу. Можно просто выучить текст и с разной степенью горячности эти фразы свои подать. Вот это – не погружённость в материал. Можно как-то продумать, как я эти фразы буду говорить: я скажу это вот так, потом вот так, потом я сделаю вот так – и будет смех! Потом я сделаю вот так – и зритель заплачет. Это такие приёмы, они есть, наверное, достаточно грубые...
– Тоже хотела сказать – грубые...
– Я начал это говорить, и пока говорил – понял, что не всегда такая внешняя актёрская техника является грубой. Она бывает очень тонкой, и человек может внутри ничего не чувствовать, а зритель будет ему верить, плакать или смеяться совершенно искренне.
– Обманщики.
– Случается, да. Но если я прорабатываю этот материал, свою роль с точки зрения какой-то такой подачи зрителю и провоцирования зрителя на определённую реакцию, это, наверное, тоже какое-то погружение, но это погружение и движение в какую-то такую попсовую сторону, эстрадную даже. А можно начать копать, придумывать, цепляться за какие-то описанные в материале (в пьесе или в произведении) вещи, обстоятельства – и уже развивать их. Даётся там какая-то сумма денег, 10 рублей... А 10 рублей у Достоевского – это много или мало? Сейчас 10 рублей это... десятью рублями больше, десятью меньше, не имеет большого значения. А тогда это были серьёзные деньги. И так же – ещё какие-то вещи, обстоятельства, детали. И можно, зацепившись за какую-то детальку, напридумывать или накопать. Придумывать – это, скорее, ты куда-то вверх идёшь, а погружённый в материал – это вниз, вглубь.
– Почва для этого – само литературное произведение или ещё какие-то приметы той же эпохи?
– Естественно! Материальная культура той эпохи.
– Картины, иллюстрации.
– Картины, иллюстрации, биография автора, какие-то яркие люди, с которыми автор мог контактировать в тот момент, какие-то события, происходящие в тот период. Если ты читаешь, изучаешь эпоху, ты понимаешь, чем люди жили, что они хотели, к чему стремились, какие заблуждения у них были на тот момент, во что они искренне верили, что сейчас кажется смешным. Такое же может быть. И поверить в это тоже искренне! Погрузиться. Видите, я опять употребляю это слово. То есть это погрузить в себя, самому погрузиться туда, как-то создать вокруг себя этот мир, потом принести этот мир на репетицию, а тебе режиссёр скажет: «Что ты тут принёс? Ерунда». Выйти из этого мира, создать какой-то другой, точно так же зацепившись за какие-то детали. Создать, прийти на следующую репетицию, принести ещё что-то. Теперь режиссёр может сказать: «Ну вот, слушай, вчера же было нормально». А ты скажешь: «Так вы же мне сказали, что всё плохо». Он: «Нет, не всё». И вот этот вот процесс – он идёт, когда ты что-то приносишь на репетицию. И тоже бывает больно – ты же работал! Ты же несколько часов потратил на то, чтобы вот это создать, накопать, нарыть!
– Конечно. Художника обидеть может каждый.
– Ты-то думал: сейчас принесу... Ну, видите, режиссёр тоже художник, твой партнёр тоже художник. Ты приходишь, тебе партнёр говорит на «давай покажем такой этюд» – «Да ну, фигня какая-то». Такого нет, такое очень редко на самом деле бывает, когда тебе партнёр говорит: «Не-не-не, ты какую-то ерунду придумал». Даже если ты думаешь, что это ерунда, всё равно... Это тоже часть актёрской профессии, тебе предлагают, можно сразу сказать «нет». И режиссёры часто вот в это искушение впадают: у него есть власть, у него есть полномочия сказать: «Стоп! Что это такое?! Никуда не годится!» Может быть, если бы он ещё 30 секунд посмотрел, он бы понял, что это не ерунда, что из этого можно что-то сделать. У актёра такого права по какому-то, наверное, неписаному кодексу нету. Мы продолжаем. Шоу должно продолжаться, даже если это и не шоу, а полный мрак – пока не дали занавес, пока режиссёр не сказал «Стоп». В том числе, если партнёр пришёл и говорит: «Давай сделаем вот такой этюд», а тебе кажется, что это полный мрак и бред... Тоже часть профессии – надо найти в этом созвучное.
– Это вызов, в общем.
– Да, правильно.
– Вы больше 20 лет в профессии, а каждая профессия имеет последствия профдеформации. Вы за собой их чувствуете?
– Конечно.
– Я сейчас примерно скажу, как это может выглядеть, а вы меня поправите – права я или нет. Актёр – это человек играющий, человек, находящийся в роли. Профдеформация актёра может ли быть в том, что человек всё время играет? Даже в обыденной жизни, даже тогда, когда нужно быть настоящим. Сложно ли это для актёра с большим опытом?
– Такое может быть, такое часто бывает. Я думаю, что у меня это было, может быть, в какой-то степени есть и сейчас. Но было точно в большей степени.
– Вы чувствуете это внутри? Можете почувствовать момент?
– Я думаю, что, наверное, это не чувствуется потом. Я же говорю, что это было, значит, я это почувствовал. Это сопряжено было с изменениями в жизни, с изменениями жизненных обстоятельств, и я, наверное, просто изменился как-то личностно. Потом я почувствовал: что-то я тут играю, в какую-то ситуацию попадаешь и как-то начинаешь по привычке себя определённым образом вести, а тебе внутренний голос говорит: «Что ты делаешь?»
Можно продолжить: «Молчи! Я знаю, как надо», а можно себя послушать и изменить поведение. А, кстати, ещё смена коллектива играет очень большую роль, очень помогает в том, чтобы вот это вот наросшее искусственное с себя счистить. Я менял коллективы. Когда я пришёл из ТЮЗа в Ермолаевский театр, в ТЮЗе меня определённым образом воспринимали, и я соответствовал этим ожиданиям, я понимал, что это не по-настоящему, может быть, но как-то вот так, привычка – вторая натура. Вторая натура лезла на первое место. Я прихожу в Ермолаевский театр, меня там с этой стороны никто не знает – и всё, я перестал себя так вести, как вёл себя здесь. Для меня это было удивительно.
– Вышли из роли.
– Вышел из роли, да.
– Вышли из роли актёра театра.
– В какой-то мере, наверное, да. Но на самом деле это плохо, это плохая вещь – то, о чём мы сейчас говорим, вот эта вот игра в жизни. Она присуща многим, она была присуща мне, может быть, в какой-то степени до сих пор, как я сказал, хотя я стараюсь, чтобы этого не было. Но, может, я не замечаю, чисто теоретически такое возможно. Такого по большому счёту быть не должно. Я не помню, кто это сказал, но есть такое выражение, мне оно очень нравится: хороший актёр – может быть, это можно даже расширить и в принципе до художника в общем смысле понимания этого слова – хороший актёр любит жизнь, он к этой жизни очень внимательно относится, он подмечает какие-то делали, он их в себя впитывает, потом он жизнь, которую он любит, – выносит на сцену. А плохой актёр любит театр и тащит театр в жизнь!
– Да. И он несёт его в жизнь... Понятно. У вас ведь театральная семья, ваша жена – тоже актриса?
– Да.
– Два актёра – играете ли вы внутри своей семьи?
– Стараемся нет. Это продолжение предыдущего...
– Другой вопрос: возможен ли союз не актёрский? В смысле – один актёр, а второй не актёр.
– Конечно возможен. Есть такие примеры, их много.
– И вполне себе удачные? Мне кажется, что это сложно человеку вне театра.
– «Жизнь прожить – не поле перейти». Даже когда два не актёра – это очень сложно.
– Это понятно. Но здесь специфика, опять же какая-то.
– Каждая профессия ведь накладывается.
– Здесь ещё и просто режим – все вечера...
– Ну, не все, но много, да. И выходные.
– Много вечеров – это спектакли, выходные. Очень трудно, если человек в обычном режиме 24/7 работает – это состыковать. В этом смысле у вас всё в порядке?
– У нас в порядке, потому что мы оба понимаем эту специфику, мы сами находимся внутри этих обстоятельств. Наверное, когда один человек не из театра, а другой театральный, то какие-то сложности есть. Но это же всё решаемо. Какая-то притирка, я думаю, в течение небольшого времени, если говорить глобально о том, чтобы прожить вместе всю жизнь, стариться вместе. Это не та проблема, чтобы она была серьёзным препятствием. Она может возникнуть, «любовная лодка разбилась о быт», да. Это один из элементов быта, который надо просто обустроить.
– Хорошо. Хотели бы вы, чтобы ваш сын стал актёром?
– Нет.
– Нет? То есть, если лет через 12...
– Ему 10 будет осенью.
– Ну, скажем, через 7–8 лет он придёт к вам и говорит: «Папа, я хочу стать актёром».
– Он артистичный человек сейчас.
– Есть в кого. А вы ведь его привлекали к театру?
– Привлекали, потом он сказал: «Нет, я не хочу». Потом, когда мы пришли в ТЮЗ – пришли не только мы, там целая команда пришла, и вот эта команда выпустила первый спектакль «Айболит и Бармалей». Там есть герой-мальчик, его у Чуковского нет; мальчик, вокруг которого закручивается история, это такой двухметровый мальчик. И когда сын посмотрел, он репетиции ещё смотрел, говорит: «А почему мальчика играет вот такой вот дядя?» Я говорю: «Потому что он актёр, театральная условность». Он: «Но ведь могут дети играть». И я понимаю, что ему захотелось, это такой опасный был сигнал! Опасный – я шучу. На самом деле, если он захочет в это пойти, то, конечно, пусть идёт. Мои родители не хотели – и пустили, что уж мне-то теперь препятствовать.
– Сказать нечего будет ребёнку?
– Я всегда найду что сказать, но, может быть, и не надо будет отговаривать, если это действительно его путь. По крайней мере он будет лучше понимать, что такое профессиональный театр, чем я, когда я шёл в эту профессию, и чем многие. Тут по крайней мере у него будет больше информации для того, чтобы подумать и принять решение.
– Хорошо. В завершение – какую роль бы вам хотелось сыграть? Мечта.
– Знаете, я много хороших ролей сыграл. Такой вопрос... Если на него отвечать так вот коротко, то нету такой роли.
– Нету такой роли?
– Вернее, нету какого-то названия.
– Хорошо. А какие вам ближе герои, персонажи?
– Совершенно разные.
– Комедия, драма, трагедия?
– По опыту мне было очень интересно работать как в комедиях каких-то совершенно дурацких, так и в серьёзных драмах, трагедиях. Было в моей жизни такое.
– Женщину хотели бы сыграть?
– Хотел бы. Но вот тоже – вы говорите «роль». Я играл на самом деле женщину и играл успешно, но это знаете что было? Я не помню, сколько мне было лет, но ещё достаточно был молодой. В ночном клубе у нас была команда аниматоров и какая-то такая вечеринка, где все переодевались – мужчины в женщин, женщины в мужчин – аниматоры. И мы выходили на танцпол в этих образах. Я пропустил время, расхватали все самые приличные костюмы, мне досталось совершенно непотребного вида какое-то почти незакрытое женское бельё. Я был в образе какой-то такой дамы: когда показывают бразильские карнавалы в Рио-де-Жанейро, там почти нет одежды, много перьев каких-то, вот мне это досталось. Я говорю: «Как, мне – вот это?!» Мне говорят: «Нету больше ничего, давай, иди». Вызов! Я это надел, я пошёл на танцпол, я зажигал ярче всех, все девчонки, которые были на танцполе, крутились вокруг меня, я с ними танцевал. Короче, повеселились. Я считаю, что это была удачная женская роль, исполненная мной. Это было интересно, это было неожиданно. Если бы мне кто-то сказал за 5 минут до того, как мне дали этот костюм: «А ты хочешь сыграть вот такую вот даму? Помнишь карнавалы?», я бы сказал – конечно, нет! А когда столкнулся с необходимостью, как-то принял этот вызов. Мне кажется, я справился. Кажется! Я уверен в этом сейчас. Ещё про роли тоже – в ТЮЗе был такой спектакль «Две стрелы» много лет назад. Моя роль там называлась «Третий воин». Весь спектакль я стоял с копьём. Были Первый воин, Второй и Третий. Мы стояли, мы много танцевали, но там все в этом спектакле много танцевали. И мы ещё говорили какие-то реплики: 3–4 на весь спектакль, что ли. Мы репетировали – а нас на первом этапе не вызывали, репетировали с главными героями, потом говорят: «Ну, всё, пускай все приходят». И вот мы приходим и стоим всю репетицию. Когда ты сидишь всю репетицию в гримёрке, ты можешь почитать, как-то отвлечься. А когда ты стоишь с копьём на сцене, тебе делать нечего. Можно тоже, конечно, поскучать, о чём-то подумать, но по большому счёту от нечего делать я начал себе выстраивать роль – я начал себе придумывать какие-то отношения с теми героями, как я отношусь к этому... Я на каждой репетиции пробовал: а если я за него? (там конфликт такой) Если я за вот этого человека? Так, значит, вот этот мне враг. И я как-то репетировал, играл. Потом я понимал, что нет, я не могу быть за этого, это неинтересно. Ну-ка, попробую вот так. И у меня выстроилась роль, я после этого спектакля уставал так, как я не уставал иногда после главных ролей, потому что каждую секунду я находился в процессе. Я очень напряжённо следил – у меня копьё, у меня оружие! По идее – пойти что-то не так – я мог это применить. И должен был: воин, такой характер. Скажи кому-нибудь: «Я мечтаю сыграть Третьего воина» или «У меня есть достижение, Третий воин». Какое достижение, массовка. Нет, для меня это роль.
– Хорошо. А роль какого персонажа кажется вам очень трудной, например? Из тех, что вы не играли. Принято считать, что роль Гамлета – это такая вершина актёрского искусства.
– Ну, это клише.
– Клише, конечно.
– Сложная роль – Гамлет. Конечно. И опять же, как решать, про что ставить, про что играть. Можно придумать так, что это будет очень просто всё. А можно придумать так, что будет сложно, но неинтересно, допустим. Вообще один из моих любимых режиссёров... тоже конкретно я не назову сейчас, а вот... «Дядя Ваня»! Доктор Астров. Доктор Астров – сложная роль, интересная. Не назову конкретно, но попробую назвать признаки: один из моих любимейших режиссёров, Борис Ильич Цейтлин, говорил: «Качество актёра – величина физическая. Измеряется количеством оценок в единицу времени». Если есть повод... В роли Третьего воина драматург не написал роль, её приходилось создавать самому.
– Придумывать.
– Да. А есть ведь роли, которые прописаны драматургом. И там прямо...
– Ремарки?
– Нет, но какие-то события. Даже без ремарок ты читаешь и понимаешь, что там происходит. Есть что играть, тебе драматург подсказывает и можно напридумывать ещё чего-то, как-то разглядеть в тексте драматурга какие-то поводы для игры.
– Слои.
– «Ромео и Джульетта». Можно сыграть, что они не любят друг друга? Конечно можно! Они не любят, им показалось, просто всё вот так. А можно сыграть, что любят? Конечно. А как интереснее? Наверное, интереснее, когда любят. А как сложнее? А сложнее – когда любят. И так же – роль какая-то с количеством оценок в единицу времени. Можно сыграть, что вот это вот какой-то монолог и ничего не происходит, его ничто не трогает, он не меняет решение.
– Оценка имеется в виду актёрская?
– Актёрская оценка, да. Можно ли сыграть, что внутри этого монолога – как он начал с этой мыслью, с этим решением, так и закончил через две страницы? Можно. Но, скорее всего, это будет неинтересно смотреть.
– Монотонно, скучно.
– Скорее всего. Можно сыграть, что он сказал два предложения и ему пришла в голову какая-то мысль, он не планировал говорить весь монолог, он планировал сказать: «Всё, я пошёл». Передумал в следующую секунду. Потом вспомнил, что 10 секунд назад решил уйти, всё-таки взял себя в руки, убежал... и потом вернулся. Я сейчас на ходу придумываю. Тоже много нюансов: это можно сыграть как суету, это тоже может быть неинтересно. Можно сыграть интересно. Но зритель же следит за какими-то изменениями. Роль, где драматургом указаны какие-то вещи, какие-то сложные вещи, глубокие с точки зрения внутреннего мира, – такая роль интересна.
– Вызов – это важно.
– Это тоже вызов, да. Важно. Просто вызов – само слово такое... «вызов». Сразу какой-то конфликт, я сейчас ощетинюсь.
– Ну, коннотация.
– Нет, видите, работа над ролью – это же не...
– Не борьба, не поединок.
– Да. Потому что вызов – и я сразу зажался, чтобы меня не ударили.
– Надо открыться.
– Надо быть открытым. И могут ударить на самом деле, да. Может ударить сам материал или сама жизнь какими-то обстоятельствами. Но тут профессия такая, надо быть открытым и надо это всё принимать, надо всё это проживать, без обезболивания. Потому что обезболишь – и ничего не почувствуешь. Ничего не почувствуешь – ничего не сыграешь.
– Вы относитесь к актёрам, которые чувствуют? Несколько минут назад вы говорили о том, что актёр может играть, а внутри его это может не трогать. Так бывает.
– На самом деле есть школа переживания и школа представления, такие две крайности. Но, во-первых, у Станиславского даже это написано, что в чистом виде не та, ни другая не встречаются, всегда один и тот же актёр в этом моменте проживает, а в следующем – что-то представляет и изображает. Причём в следующем спектакле может быть по-другому: он может, наоборот, здесь представить, а там – прожить.
А во-вторых, в школе представления без переживания тоже не обходится. Один из этапов работы над ролью в репетиционном процессе – это очень глубокое, подробное проживание какого-то события – подмечание как твоё тело себя ведёт, как у тебя ресницы дёргаются, как кровь к лицу приливает. И потом вот это вот повторение. Либо подмечание в других каких-то деталей и потом их воплощение чисто техническое. Но другой-то человек, когда с ним что-то происходит, он это переживает по-настоящему. Ты подмечаешь какое-то внешнее выражение этого переживания и берёшь его. Но без переживания не обходится.
– Спасибо большое за беседу. Было любопытно заглянуть за кулисы.
– Мне тоже было очень приятно с вами побеседовать.
– Спасибо. Всего доброго.
– До свидания.
Беседовала Елена Мельниченко