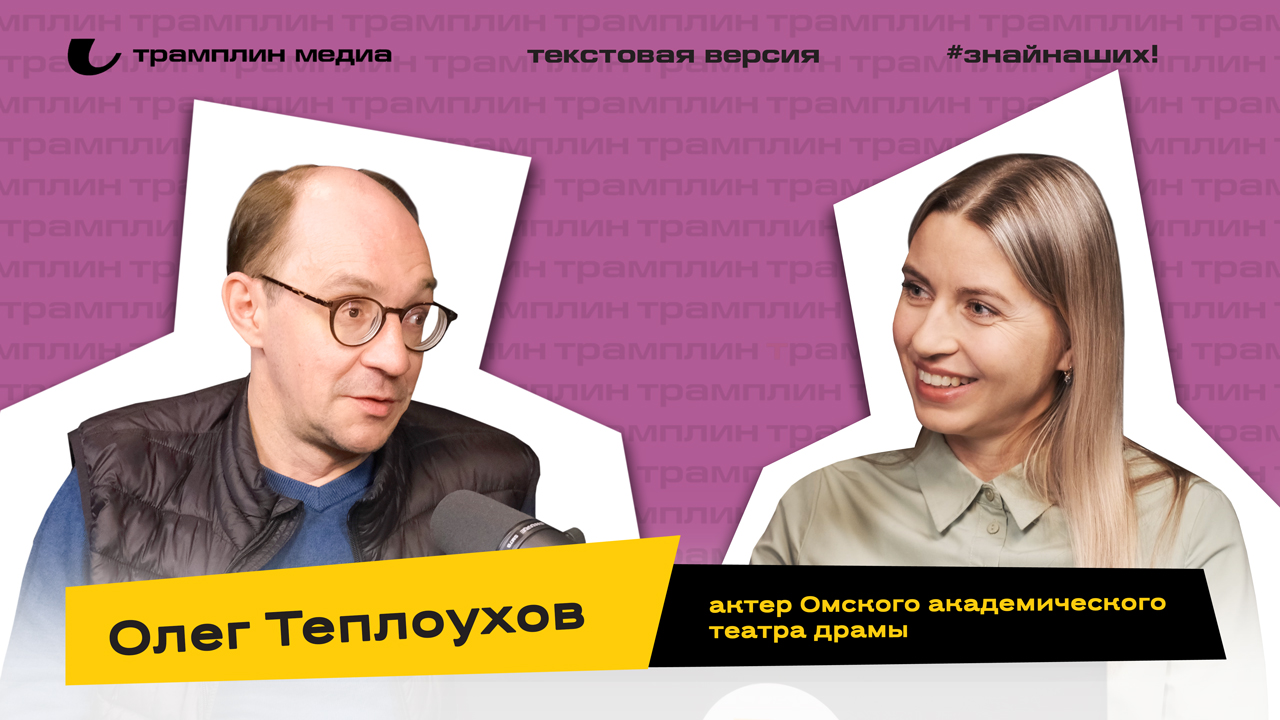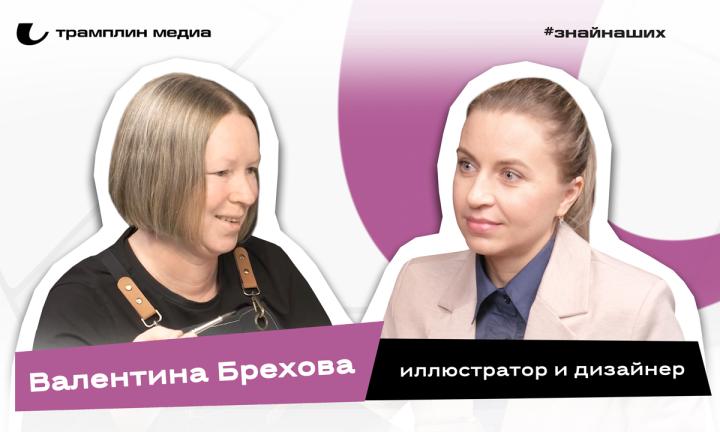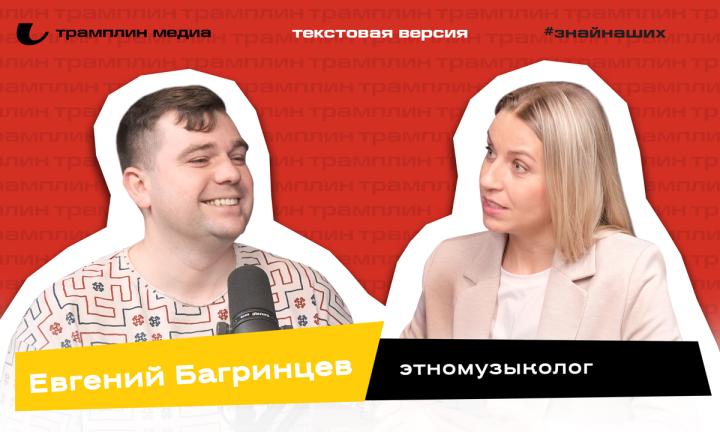Дата публикации: 11.05.2024
Для тех, кто любит читать, текстовая версия подкаста «Знай наших!» с Олегом Теплоуховым.
– Здравствуйте, это медиа «Трамплин» и подкаст «Знай наших!». В этом году Омский академический театр драмы отмечает 150 лет со дня своего основания. Последние 30 лет – это пятая часть от всей большой истории – здесь служит любимый многими актёр, режиссёр, педагог, драматург и переводчик, заслуженный артист России Олег Теплоухов.
Олег Александрович, я рада встрече.
– Добрый день, здравствуйте.
– Вы известны как актёр, мало кто знает, что вообще-то вы ещё и поэт. По-моему, в одном из прошлогодних интервью вы признались, что нагло спёрли замечательные мысли замечательных людей, чтобы их просто красиво уложить в стихотворную форму для лучшего запоминания. Просто так они действительно не запоминаются!
– На самом деле – да. Просто есть такое утверждение, что в стихотворной форме, в ритмизованной – мысль запоминается гораздо лучше. Была у меня такая книжка афоризмов в своё время. Это всё началось ещё в студенческие годы, когда мне было лет 18–19. Совершенно чудесная была подборка Оскара Уайльда – мысли парадоксальные и смешные, но почему их никто не знает? Мне стало как-то за него не по себе, думаю: дай-ка я ему немножко помогу (как мне показалось тогда). Я решил просто немножко эти прозаические афоризмы перевести в рифму. Какой-то там набор был написан в своё время, потом туда добавились какие-то свои. Это же всё от наглости, от юношеской наглости.
– У меня к вам вот какое предложение, тоже авантюрного содержания. Давайте наш разговор построим, отталкиваясь от этих афоризмов? Я вам буду озвучивать фразы знаменитых людей, среди них, кстати, очень много театральных деятелей, а вы уже, отталкиваясь, будете рассуждать и рассказывать о себе, о творческой деятельности, о театре, о жизни. Рискнём?
– Давайте рискнём.
– «Я жила со многими театрами, но так и не получила удовольствия». Это Фаина Раневская сказала.
– Мудрая женщина была, не хватает сейчас таких людей. У неё есть ещё одна совершенно замечательная фраза, когда её спросила Наталья Крымова: «Вы переходили из театра в театр зачем?» – «Искала святое искусство». – «Нашли?» – «Да!» – «Где?» – «В Третьяковской галерее». Это гениально. На самом деле тут можно сказать, что очень хорошо понимаю Фаину Георгиевну. Но она-то действительно поменяла кучу театров, и не только московских, но и провинциальных. Я как-то прикипел к одному, но это же ещё ни о чём не говорит, театр – штука изменяемая, он же живой: сегодня он такой, завтра эдакий. Причём это всё не днями меняется, а годами. За тридцать лет мы вместе с родным театром прошли довольно длинный путь, и если возвращаться к тем же стихотворным хулиганствам, можно такое вспомнить:
Вдруг при явной мысли дешевизне, на исходе судорожных сил
Понял я, чего хочу от жизни, но опять сегодня позабыл.
И второе было, в то же время написанное, как раз это 18–19 лет:
Признавая факт необходимости, я летал везде, не зная брода,
Но в процессе жизнепроходимости не учёл летального исхода.
Сразу возникает мысль: что такое было с этим человеком в 18–19 лет, что он так вот... Рифма!
– То есть вы просто оттачивали.
– Да. Видимо, да. Не думая об этом, но скорее всего. Просто мне казалось, что хорошо ложится.
– В принципе, да, хорошо.
– Потом такое было:
Актёр к всему обязан первый, актёру должно крест свой несть,
Но у актёра тоже нервы, актёру тоже надо есть.
Жизненно, так скажем. Иногда афоризмы действительно очень сильно приходят на помощь, они по крайней мере снимают очень серьёзный градус пафоса с нашей не такой простой жизни. Потому что действительно жизнь у нас очень непростая. На самом деле за 30 лет, что я служу в Омской драме, кардинально поменялось очень многое. Поменялись ритмы, мы стали жить гораздо быстрее, мы стали жить гораздо судорожнее, мы стали жить гораздо невнимательнее, поверхностнее, но при этом как нас окружила и практически всё собой затмила техника! Я пришёл в театр, когда роли распечатывали на машинке, где-то у меня дома даже хранятся мои первые эти бумажки, первые листочки, отпечатанные на машинке. Сейчас – пожалуйста! – везде есть принтеры, везде тексты распечатывают, иногда даже не надо распечатывать: берутся телефоны, планшеты и текст читается оттуда. И в этом уже есть что-то ненастоящее, неживое.
– Пропал шарм.
– Да. Та же самая Фаина Георгиевна в том памятном интервью Наталье Крымовой, когда Крымова её спросила, в чём сейчас проблема у театра – а это был конец 80-ых – и Фаина Георгиевна сказала очень простую и очень мудрую вещь: «Ушёл трепет». Театр, даже самый успешный, чаще всего превращается в некую фабрику, в какой-то конвейер: выпуск спектакля следующего, следующего, следующего. Дирекция бегает, ищет деньги на это – выпуск спектакля это дело довольно дорогостоящее. Усложняется оформление, это всё техника, это видеоконтент и так далее.
– То есть все глубокие процессы – уже становятся незаметны, не проживаются?
– Они потихонечку отходят на второй план. Больше выходит на первый план визуальная часть: как это подать. Когда-то в своё время, ещё в 40-е годы прошлого века, Алексей Денисович Дикий, артист и режиссёр, собираясь ставить что-то очередное, какую-то очередную постановку, собирал актёров и спрашивал: «Чем будем удивлять?» Сейчас театр удивляет, да. Технических, медийных выразительных средств – выше крыши, были бы деньги. Далеко за примерами ходить не надо, я сейчас даже Москву не беру, – Красноярский ТЮЗ, там его художник Ахмедов (очень технически подкованный человек). Они каким-то образом, я не знаю, кто им деньги давал, честно говоря, поддержка была колоссальная, но у них такая техника! Они ставили «Хроники Нарнии» – по залу всё летало, над залом, над сценой исчезало и появлялось. Там чудеса какие-то.
– 3D-постановка.
– Абсолютная! Там, по-моему, даже 5–6D, всё сразу, включая запахи, наверняка не знаю. Да, это красиво, это поражает. Ну а суть театра, мне кажется, немножко в другом. Она именно в том, что мы говорим о человеке, о природе человека, о тех процессах, которые внутри человека происходят. Буквально два дня назад у меня была встреча со зрителями, и задали вопрос: «Есть у вас спектакль “Небо позднего августа”. Камеры. А вот не уводит ли это? Я немножко не понимаю, куда смотреть: или на экран с крупным планом артиста, или на самого артиста». Да, это непривычно. На самом-то деле спектакль построен так, что все происходящие между персонажами события никуда не ушли, они ничем не подменены, наоборот – они с помощью камер, с помощью крупного плана вынесены. Хлопотать лицом артисту не надо, вы его видите крупно, вы видите по глазам, что с ним происходит. Вот здесь – да, здесь визуальный ряд помогает, эта техника. Но при этом мы же чётко прорабатываем то, что происходит в пьесе, мы это анализируем, мы это присваиваем себе, мы вживаемся. Вот, пожалуйста, тридцать лет. Телефонов тогда не было, сейчас они появились у каждого, а когда-то они были на вес золота.
– Телефоны – это зло, вы сказали.
– Зло. Но опять – я этим злом пользуюсь довольно активно, потому что это связи, это рабочие связи, это моментальный выход в интернет, где можно найти то, что тебе необходимо. Но я очень скучаю по тем временам, когда мы ходили в библиотеки. Когда мы писали письма и ждали ответов. В детские годы, я помню, перед праздниками мы с мамой шли в киоск «Союзпечати», накупали вот такую пачку открыток и начинали писать поздравления всем родственникам. Мы рассылали это всё, мы ждали таких же открыток обратно. В этом было общение. Сейчас, к сожалению, в нынешних наших ритмах общение ушло. И отсутствие общения проникло во все сферы, включая даже геополитику. Куда мы летим... Мы летим просто к какой-то глобальной катастрофе, дело даже не в войне, не в ядерном оружии, а в том, что мы разъединены сами по себе. Мы немного – даже не немного, а очень много – отворачиваемся от жизни. А жизнь – что? Движение и общение.
– Возвращаясь к Фаине Раневской – в этом есть какая-то прелесть: служить одному театру, работать здесь.
– Иногда надо выходить.
– Вы никогда не хотели выйти?
– В смысле – уйти?
– Уйти, выйти... да, это разные понятия всё-таки.
– У меня были такие моменты, когда два спектакля, два названия я играл в ТЮЗе – как приглашённый.
– Экспериментальный потом ещё был.
– Да, наш Экспериментальный театр. Ты выходишь и немножко погружаешься в другую среду, понимаешь, что мы-то ещё неплохо живём. Вовсе не значит, что там живут плохо, нет. Там живут иначе, там немножко другие ценности, какие-то другие эстетические, этические принципы. Мне дороже там, где я вырос. Уходить – был момент однажды, был тяжёлый момент. Это было лет пятнадцать назад, видимо, какой-то был сбой в моей внутренней Матрице, что-то там.
– Мы все люди, бывает такое.
– Это же всё волнообразно. Как пел Золотухин в своё время: жизнь вроде зебры, чёрный цвет, а потом будет белый цвет, вот и весь секрет. Видимо, тогда был какой-то пусть не чёрный, но очень серый.
– Выходы нужны для пользы?
– Да, да. Надо выходить, чтобы просто немножко произвести процесс сравнения, анализа, так скажем. Потому что в жизни бывают такие периоды, когда всё наваливается, наваливается – и ты понимаешь, что разгрести пока эту гору не можешь. Просто не можешь. И для себя я так определил: всё, я ухожу в процесс, в мир созерцания, то есть отпускаю всё – плыви оно само по течению, как оно поплывёт. И я какое-то время наблюдаю, как оно плывёт, куда оно плывёт и куда плыву я вместе с ним. А потом уже, когда понимаю, что пора бы засучить рукава и начать что-то делать, то из этого процесса выхожу. Это сознательно. И тогда наверняка был такой же период, когда я даже написал письмо одному режиссёру, хорошо мне знакомому и очень уважаемому. Он мне ответил, спросил: «Что такое?» Я ему написал большое письмо – «всё, не могу., ужас». Он немножко, видимо, растерялся тогда, потому что его ответное письмо начиналось довольно, как мне показалось, растерянно. Он говорит: «Ну подожди, как? Ты же настолько тамошний, всякое бывает, подожди. Нет, конечно, если совсем станет худо, я найду место». Тогда он меня именно вот этим остановил: «ты же тамошний». И я вдруг понимаю, что даже дома, в семье ведь всякое бывает. Нельзя же каждый день с родной женой только на улыбочках. Да, мы ссоримся иногда, ругаемся иногда, бывает.
– Мне кажется, в этом и есть живые отношения, нормальные.
– Это и есть жизнь, мы что-то выстраиваем. Слава тебе господи, мы в привычку не входим, когда «о, опять то же лицо». Это уже просто кранты рулю, простите. Выходить надо. У меня, к сожалению, довольно давно очень плотный график, когда я просто не успеваю ходить в другие театры, это крайне редко случается, когда я иду на конкретный спектакль, когда зовут, я смотрю и понимаю что-то там – и про этот театр, и про соотношение с нашим. Но, к сожалению, сейчас просто нет времени.
– Это просто много спектаклей?
– И спектаклей много, и студенты есть, и детская театральная школа есть, и надо ещё немножко другими делами заниматься.
– Вы прямо опередили несколько цитат.
– А давайте мы их просто прочтём.
– Вот смотрите: «Театру, который достиг совершенства, уже ничто не может помочь». Николай Акимов эту фразу сказал, советский театральный режиссёр.
– Ответная фразу из того же Николая Акимова, это были, дай бог памяти, 60-е годы, когда акимовская комедия, Театр комедии – гремел, а главный театр страны, МХАТ, очень успешно загнивал. Кто-то – то ли какой-то художник, то ли критик, не помню кто, приехал в Питер к Акимову (тогда – в Ленинград), они разговаривали, а Акимов славился своим острым языком. Этот гость говорит: «Как ты считаешь, Николай Павлович, может МХАТ стать живым театром снова?» Николай Павлович говорит: «Ты хочешь сказать, может ли уха стать аквариумом? По-моему, тут вопросов нет».
– И ещё одна фраза, Орландо Блум, киноактёр: «Я не боюсь ошибок, потому что они лучше всего могут чему-то научить».
– Абсолютно верно. Кто-то, может быть, сказал, но мне кажется, что это я придумал: опыт – это количество шишек на твоей голове. Когда голова ровная и нетронутая, опыта нет. Когда ребёнок бегает, носится, он должен набивать шишки.
– Мы так цепляемся и идём наверх.
– Да-да, это приобретение опыта. Если ты не упадёшь, ты не пойдёшь. Ты должен попадать, ты должен сунуть пальчики в розетку, хотя знаешь, что там бабайка. Но это же интересно! С детства нас ведёт интерес, с детства нас ведёт любопытство, а они – и любопытство, и интерес – очень мощное топливо для движения. А без движения – жизни-то нет, её просто нет, просто так не бывает.
– Давайте следующую фразу разберём. «Найти себя невозможно, себя можно только создать». Джонни Депп сказал такое.
– Тоже точно. Потому что есть ещё одна фраза, я ею очень часто пользуюсь, тоже кто-то из великих её сказал: «Научить ничему нельзя, можно научиться». Наш мастер, народный артист России Владимир Иванович Марченко, к величайшему сожалению, ныне покойный, нам эту фразу говорил. И ещё с первого курса сказал: «Ребята, ну хоть пять Табаковых я над вами поставлю, хоть пять Фоменко, – если вы не захотите, ничего не получится». Дело ведь не в педагоге, педагог направляет, подсказывает, помогает, а ты это приобретаешь сам-то знание, этот опыт, это умение, все навыки. Ты сам это берёшь. И если ты не захочешь, да хоть кто над тобой стой, это бессмысленно. Поиск – это такое явление, которое присуще каждому человеку, весь вопрос в том, насколько человек с этим явлением сам разбирается, насколько он его принимает, насколько ему это надо. А искать – необходимо, просто необходимо, иначе жизнь превращается в просто существование, тем более в нашей профессии. Без впечатлений она теряется.
– Когда вы поняли, что вы более-менее себя слепили, что-то уже такое вырисовывается?
– Да я не скажу, что я это понял. Слепил ли? И себя ли? Вот в чём дело, понимаете? На самом деле, если немножко отстраниться, отойти немножко в сторону и подумать, – все умные фразы до нас уже сказаны, все крупные роли до нас уже сыграны (и не раз). Никогда не мечтал о Гамлете – он игран-переигран, только ленивый не играл, по-моему. Сколько театр существует как таковой, как явление? Чуть больше двух тысяч лет. Есть какая-то дата: пятьсот-какой-то кучерявый год до нашей эры, Греция, из этих шествий хоровых и так далее.
– Сколько существует человек.
– Да, сколько существует, скажем так, человек осознанный. Насколько я помню, у шумеров театра не было, у египтян, по-моему, тоже. Дело даже не в этом. Артисты разных поколений на самом деле не просто так артисты, это... воры. Они друг у друга воруют, они тырят приёмчики, они тырят красочки, подворовывают. Это нормально! Потому что, чуть-чуть отойдя в сторону, есть такая практика на театре – два состава, чтобы как можно больше народу занять. А то и три бывает, да. И очень часто такое бывает, что где-то в театре говорят: «Ну, первый состав – это первый состав. Второй – он похуже». Ерунда абсолютная. Потому что артисты-то разные! И когда я слышу иногда от артистов «я не буду делать как он!» – да ты и не сделаешь как он, потому что он не ты, а ты не он. Вы никогда друг друга не повторите. Можно насмотреться, наслушаться, можно подтибрить, так скажем, какой-то приём, краску, оценку, что-то ещё. Но ты её присвоишь себе, и она станет твоей.
– Потому что база у всех разная.
– База разная, люди разные, природа немножко разная у всех. Поэтому мы так вот беззастенчиво – смотря кино, старые спектакли, ещё что-то, подглядывая за людьми на улице, в транспорте. Мы собираем вот эти впечатления, мы их копим, у нас у каждого есть своя актёрская копилка.
– Всё равно никто не застукает.
– В том-то всё и дело. Что далеко ходить, вот недавняя наша премьера – «Плоды просвещения». Мы долго думали, что, как, куда. Странная пьеса у Льва Николаевича Толстого. Художник с режиссёром придумали, что мой персонаж, профессор Кругосветлов, – он Эйнштейн, там парик такой огромный, эйнштейновский. А как вот в этом существовать? Тем более это такая комедия, шутка, хулиганство Толстого. Думаю: а что далеко ходить? У меня был замечательный пример перед глазами в течение нескольких лет – Юрий Ицков. Я просто манеру речи и внешнего поведения взял с Ицкова, я немножко, так сказать, украл у Юрия Леонидовича, чуть-чуть. Но это ложится сюда, и некоторые зрители узнают – о, Ицков! О, класс. Оно легло, оно сюда встало. Кража? Да нет.
– Да, не скажешь же, что это пародия.
– Заимствование? Нет. Это просто взята манера речи, она мною присвоена. Тем более Юрий Леонидович для меня просто родной человек, мы в очень хороших дружеских отношениях, в очень добрых. Я очень на это надеюсь, себя так тешу надеждой. По крайней мере у нас с ним за всё время нашего общения никогда каких-то раздоров и крупных ссор не было. Я к нему с величайшим уважением всегда относился и отношусь. Сейчас на юбилей я очень его жду.
– Вообще актёры могут дружить?
– Не всегда. Редкие.
– Но это настоящая дружба, если мы говорим о редких.
– Это да.
– Сыграть здесь невозможно.
– Понимаете, профессия такая. Режиссёры говорят, что они волки-одиночки – «вот я волк-одиночка, поэтому...» Артист всё-таки, хочешь не хочешь, он в коллективе, у нас коллективное творчество всё-таки, даже если мы играем вдвоём. Даже моноспектакль – у меня есть общение с залом, но всё равно каждый сам в себе, потому что каждый артист – это какая-то определённая планета, это какое-то свой мир со своими бурями, со своими внутренними катастрофами.
– Как любой человек.
– Как любой человек, естественно. И при этом актёрская профессия – профессия публичная, она площадная. Человек – животное общественное, но не публичное, а актёр – публичный, мы привыкаем выходит на люди, чего не очень любят делать люди, этой профессией не занимающиеся. Им сложно выходить на собраниях, говорить какие-то слова. Да господи, иногда сказать какую-то здравицу за праздничным столом тоже бывает трудно, это волнение. Мы вот эту грань как-то переступаем в себе, мы привыкаем быть на людях. Мы всё время – не скажу, что в маске, но у нас есть какая-то броня, так скажем, нас немножко прикрывающая.
– Немножко сейчас о публичности хотелось бы поговорить – это, наверное, потребность.
– Не сказал бы, я бы не сказал так. Я, например, не очень люблю, когда в центре внимания. Сколько лет работаю, но не очень люблю. Особенно в транспорте – узнают, говорят: «Здрасьте, вчера видели!»
– Транспорт – это другая ситуация.
– Ну, на улице и так далее. Сцена – есть порог. Есть сцена, есть вот эта линия рампы.
– Барьер такой.
– Барьер, да. Зал – там. Да, он смотрит, да, я перед ним. Вот эту грань мы всё равно переходим. У нас вырабатывается привычка не стесняться, так скажем. Какая-то малая толика потери стыда, грубо говоря. Дружба – возвращаясь к этой теме – предполагает открытость в отношениях и доверительность. Это то же самое, что семья, иногда даже бывает похлеще и покруче, чем семейные отношения. В актёрской среде с этим правда трудно, именно в актёрской среде. У артистов есть друзья, но, как правило, чаще всего это люди из иных сфер – чтобы не пересекаться.
– Не спорить.
– Да даже не то что не спорить. Я очень не завидую актёрским семьям, потому что мы в театре целый день, потом мы с тобой же ещё дома целый день. И опять мы волей-неволей тянем шлейф с работы домой. Я женат на женщине, так скажем, из публики, никакого отношения к театру моя жена, слава богу, не имеет. Когда надо, что-то ей расскажу, когда интересное.
– Слава богу, нет никаких репетиций дома.
– Я дома о театре меньше думаю. Естественно, думаю, занимаюсь подбором чего-то, заучиванием текстов, подбором фонограмм, есть чем заниматься. Но, слава богу, у меня нет потребности дома – «театр то-сё, пятое-десятое, профессия». Нет, дома я, слава богу, нормальный.
– Отвлекаетесь.
– Так вот, с дружбой – у кого-то, может быть, нет, а у меня, слава богу, в нашей среде – повезло, есть. И мы дружим уже больше двадцати пяти лет с Русланом Шапориным, мы за эти годы прошли через самые разные виды отношений – и ругались, и разбегались, снова сходились, всякое бывало. Два не самых спокойных человека, скажем так.
– В общем, проверено уже.
– Проверено, да. Есть очень крепкие приятельские отношения – не скажу дружеские, друзей много не бывает, их и не должно быть много – очень уважительные, обоюдно – с ребятами из других театров. Это совершенно чудесный, потрясающий Дима Войдак из «Арлекина». К величайшему моему сожалению – ушёл из жизни Серёжа Зубенко. Серёжкины звонки – он звонил не так часто – мне были всегда очень радостны. Серёжка громкий такой был, я помню, однажды пришёл, прибежал, мы что-то сидели ели – какие-то оладьи у меня были сделаны, мной напечены, он мне эти оладьи потом лет 10–15 вспоминал: «хочу прийти ещё». Что-то он хохотал, рассказывал. Когда он ушёл, стало в квартире тихо, пришла соседка сверху: «Кто у тебя был, что это?» Я: «Это мой очень хороший друг, приятель». Она: «Ой, какой громкий». Но он не громкий, просто Серёжа фонтанировал всегда, он такой фонтан энергии.
– Человек-праздник.
– Да, Серёжка замечательный был. На самом деле людей, с которыми я с удовольствием поддерживаю отношения, их больше, чем пальцев на руках, это слава богу. И есть не только в театре такие люди, которые театром интересуются, но в театре не работают. И я им за это очень благодарен.
– Перейдём к другой цитате: «Людям не нравятся сплетни только в одном случае – когда сплетничают о них». Уилл Роджерс, американский ковбой, комик, актёр, журналист.
– Есть сермяга в этой фразе.
– К этой цитате я бы хотела ещё свой вопрос – правда, что актёры не очень любят вот эти театральные байки? Или они тоже разные бывают, разное отношение.
– Да нет. Отношение – разное. Байка ведь это почти анекдот.
– Но если это анекдот про тебя, то...
– Тут от тебя зависит – как ты сам о себе понимаешь. Но, видите, байка в отличие от анекдота – анекдот можно рассказать в компании, а байка – штука очень внутреннего употребления, поймут её только люди, которые знакомы с контекстом, так вот я загнул. Надо знать природу отношений, потому что, когда я байку начну рассказывать, скажем, в среде банкиров-предпринимателей, мне придётся очень долго объяснять суть наших внутренних взаимоотношений.
– Всю преамбулу.
– Да. Что, кому, как, чего, зачем, почему. В театральной среде это сразу понимается.
– Я думаю, нас сейчас смотрят театралы, давайте какую-нибудь одну.
– Сейчас мы к этому придём. В театральной среде это сразу понимают, поэтому юмор считывается. Байка, как правило, это штука зачастую нецензурная, поэтому она байка для внутреннего употребления.
– Это как у врачей чёрный юмор?
– Да. Байка – что такое, из чего? Это из ошибок актёрских, из оговорок, из перепутывания текста.
– Весёлая история.
– Когда вдруг ни с того ни с сего так сказанёт, что хоть стой, хоть падай. Причём артист сам иногда не понимает, как у него это вырвалось. В плане оговорок у нас был рекордсменом всегда дядя Женя Смирнов, он так иногда вышивал, просто мама родная, хоть стой, хоть падай. Был чудесный спектакль «Игроки», мы его десять лет играли, он играл там совершенно небольшой эпизод, но такой колоритный! Он запоминался моментально. Глов-старший он там был, у него была реплика (а это во времена Гоголя, первая половина XIX века): «Выдаю замуж дочь, осемнадцатилетнюю девицу». Простая фраза, да? Немножко старорусский язык – «осемнадцатилетнюю». И мы играем спектакль, дядя Женя выходит, слово за слово, он подходит к этой реплике. И очень искренне, очень наполненно говорит эту фразу: «Выдаю замуж дочь, осьмидесятилетнюю девицу». Куда нам с тем же Русланом Шапуриным было деваться? Мы чуть под стол не сползли, мы закрылись вот так вот руками, потому что малая сцена, там не спрячешься.
– На автомате.
– У него это было легко. В тех же «Игроках» по тексту: «Сын кончил курс, непременно хочет быть гусаром», а дядя Женя говорит: «Сын кончил одиннадцатилетку». Какую одиннадцатилетку?! О чём ты говоришь, это Гоголь. Да, мы в современных костюмах, а текст остался неизменным.
Потом была совершенно сумасшедшая оговорка у Валерии Ивановны Прокоп. Её пока не переплюнул никто.
– Даже дядя Женя Смирнов?
– Даже он. Мы иногда эту историю с ней вспоминаем, она сама говорит: «Я до сих пор не могу понять, как у меня это вырвалось». Это был спектакль «Зимняя сказка» по Шекспиру, она играла – такую женщину там – Паулину, которая, по-моему, фрейлина королевы была. Там история мощной ревности короля к королеве, королеву посадили в тюрьму, королева в тюрьме рожает – и Паулина приходит забрать этого ребёнка. Тюремщик её не пускает, и Паулина говорит шекспировским стихом фразу: «Ребёнок, бывший пленником во чреве, освобождён законом и природой и неподвластен гневу короля». То есть «я имею право забрать ребёнка». Мизансцена была такая: в одном углу охранник, вот этот тюремщик, Вячеслав Михайлович Корфидов, не пускал Валерию Ивановну, мало того не пускал, он ещё всячески к ней приставал. А в другом углу стояла группа людей в плащах с чёрными капюшонами, лиц было, слава богу, не видно. У нас кукла была этого ребёнка, мы немножко её открывали и уходили, то есть ребёнка мы спасли. Мы стоим кружочком, среди нас Елена Ивановна Псарёва ещё, царствие небесное. И вдруг слышим из уст Валерии Ивановны, которая отбивается от этого тюремщика: «Ребёнок, бывший члеником во хрене...» Она договорить не смогла, нас вот так вот зашатало...
– Это на репетиции?
– Это было на спектакле! Мы стали, еле сдавливаясь, уходить туда вот, вверх по декорации, но тут всех добила Елена Ивановна. Она тихонечко, идя в толпе и неся этого ребёнка, выдала (сейчас немножко фразу поправлю, чтобы она была приличной для эфира): «Вот, блин, выдала». И мы все ввалились за кулисы. Валерия Ивановна говорит: «Как я это сказала, как?!»
– Антракт?
– Нет, там пошла следующая сцена. Она фразу не договорила, быстренько убежала. Как это происходит? Вот пожалуйста, байки. Их не все можно рассказывать, очень часто это бывает связано с вредными привычками, так скажем. Была история в театре – нам её рассказывали, я её не застал – это где-то 70-е годы, тот расцвет, золотой век Омской драмы, когда Каширин, Чонишвили, Щёголев, Степун, Слесарев – вот эти артисты блистали.
– Старый состав.
– Старый, золотой состав, так скажем. И очень в театре была популярна игра в нарды. Во время спектакля играли, ходило такое двустишие по театру: «Ты меня на сцене ждеши, а я играю в шеши-беши». Пропускали выходы. Тот же Каширин: «О... Опоздал. Играем дальше». Яков Маркович Киржнер, тогдашний главный режиссёр, как-то однажды весь коллектив собрал, все думали – сейчас будет пропесочивать, а он сделал очень просто, он показательные похороны устроил – на сцену вынесли эти нарды, завернули в красный кумач, весь коллектив вывели из театра, где-то вырыли ямку и эти нарды похоронили. Это было показательно.
– Они там так и покоятся?
– А бог его знает. Это легенда вот такая до нас дошла. Где, в каком месте это было, я сейчас не знаю. Это мне надо допросить с пристрастием Валерия Ивановича Алексеева, он это, вроде как, помнит. Я эту байку услышал от него. Баек на самом деле очень много. Где-то ещё в конце 90-х Лена Чернякова, ныне Мамонтова, когда работала на телевидении, снимала эти программы, когда мы собирались в «Сибирской короне» и травили байки. Но на самом деле их выбрать было очень трудно, потому что это же, извините, эфир, это пойдёт в люди, это пойдёт на зрителя – и отобрать более-менее приличные байки нереально. По крайней мере, это очень трудно.
– Нельзя афишировать.
– Не всё. Потому что есть какие-то внутренние секреты, наши домашние тайны. Мы же не всё рассказываем.
– Ну да. Есть такая мысль Анджея Вайды, польского режиссёра театра и кино: «Режиссёр должен обладать душой поэта и волей капрала». Вы – как режиссёр уже, и поэт, и актёр, такой многогранный человек – что на счёт этого скажете?
– Давайте сначала с многогранностью разберёмся. Дядя Женя Смирнов в таких случаях всегда говорил: «чувствую, что бронзовею». Я занимаюсь этим, так сказать, по крайней мере режиссурой – вынужденно. Я с большим интересом занимаюсь педагогикой, мне это интересно на самом деле, и что-то получается. Но с этими ребятами, воспитанными мной с первого курса, я должен в результате сделать спектакли, где они могут показать, чему они научились.
– Тут поневоле вы режиссёром выступаете.
– Да, тут поневоле режиссёр. Но как-то я уже немножко в это дело втянулся. С этим курсом, который выпускается этим летом, сейчас я делаю уже свой третий спектакль с ними. Вообще спектаклей пять, мы выпускаем большой набор. Но дело даже не в этом. Да, ум поэта и воля капрала. Режиссёр на самом деле – он один, который собирает воедино все нити спектакля – артистов, художников, композиторов, балетмейстеров, драматурга, звукооператоров, осветителей – всё! Он один ответственен за всё. Без воли капрала... Немножко, конечно, Вайда слукавил: там не капрал нужен, там нужен действительно боевой генерал. Далеко ходить за примерами не нужно, иногда нужно быть Суровикиным.
– И там нужны другие эмоции, не те, что у актёра.
– Там нужны не эмоции, эмоции надо, наоборот, загонять внутрь, потому что эмоции в момент сборки спектакля – деструктивны, рушат.
– То есть режиссёру больше нужна голова, что-то рациональное.
– На моменте выпуска – да. В моменте сочинения спектакля – там эмоция необходима, там нужна заразительность. Мне, придумавшему вот этот спектакль, нужно артистов заразить, мне нужно составить с ними некий сговор, мне нужно их увлечь идти за мной по этой дороге. То есть это ответственность дикая, и в результате, когда ты уже спектакль собрал, последние прогоны – это чувство колоссального одиночества, потому что спектакль уже переходит в руки артистов, ты уже помочь ничем не можешь. Ты конструктор, который собрал корабль, корабль отправляется в плавание, а ты остаёшься на берегу, ты один. А он там себе плывёт.
– Режиссёру проще работать, когда у него есть актёрский опыт – или он приходит, вот, я режиссёр...
– Актёрский опыт необходим, потому что очень часто приходится показывать. Хотя артисты это не очень любят – волей-неволей начинаешь повторять. Но хорошие режиссёры, как правило, показывают не сам приём, они показывают суть. Это такие режиссёры, которые актёрского опыта не имели – например, Анатолий Васильевич Эфрос. Были блистательные показы, он показывал именно суть, а актёром он не был никогда, он сразу пришёл в режиссуру.
– То есть это в нём было.
– В нём это было, это природа. Станиславский был артист изначально, Немирович-Данченко артистом не был, он драматург и педагог. Но тоже, как говорят, показы были просто изумительно точные. Страшно бывает, когда... «Страшно» тоже такое слово – не очень точное. Опасно, скажем так! Опасно, когда режиссёр в прошлом – блистательный артист.
– И он будет требовать?
– Нет, я веду к конкретному примеру: три спектакля у нас в театре сделал Александр Баргман, блестящий артист и изумительный режиссёр. Саша старается всегда показывать как можно меньше, он лучше потратит больше времени на объяснение, на какую-то эмоциональную передачу того явления, которое нужно сыграть, но он старается не показывать, потому что он прекрасно понимает, что он покажет, как – и он навяжет. А ему нужна моя трактовка, ему нужно, как я это пропущу через себя и выдам.
– Это уже мудрость.
– Да, это уже мудрость и опыт. Кого я очень хорошо помню – с точными показами и показами в помощь – это, безусловно, Владимир Сергеевич Петров, мой первый режиссёр и учитель. Кто бы мне что про него ни говорил, я считал и буду считать его своим учителем, он меня создал, воспитал и пустил, так сказать, во взрослую жизнь. Первый режиссёр, к которому я попал.
Очень интересно показывает – сдержанно, но безумно точно – Александр Сергеевич Кузин, он сам в далёком прошлом артист (и очень хороший артист!), но ушёл в режиссуру и режиссура ему гораздо интереснее. Он ещё и педагог прекрасный, изумительный педагог.
Совсем как-то без показов обходится Алексей Крикливый, абсолютно не показывает. Он рассказывает, объясняет. Петя Шерешевский вообще из-за стола не встаёт. Вообще! Совершенно спокойно так вот рассказал. Он встаёт, только когда репетиция закончена. Ну или действительно надо. Он выходит на сцену, когда надо что-то решить там с художником: куда что переставить или как и куда свет. Только тогда Петя выходил, а так всё время за столом. И объяснения очень точные. Когда режиссёр действительно умеет объяснить, когда он словом умеет, слово петушиное находит, умеет тебя им заразить, ты к нему моментально подключаешься – и там уже ничего не надо.
То же самое – Женя Марчелли, режиссёр просто с колоссальным чутьём актёрской природы, он как-то так чувствует артиста, он ему так выстраивает одну мизансцену за другой! Говорит: «Вот так, вот так и вот так, всё, ну-ка, давай!» Ты проходишь этот маленький путь, скажем, от стола к стулу, от стула к дивану, при этом разложив текст, и тебе уже ничего играть не надо, он тебе это всё выстроил. И Женя – не показывает, тоже не показывает. У него какая-то колоссальная энергетика, она не столько заражает, сколько он тебя в себя втягивает, и ты – всё, ты в его биополе, ты в его ауре, вы разговариваете на одном языке, дышите в одну сторону. И это прекрасно.
– Это удачно. Давайте съездим в Италию...
– Четыре года там не был.
– Которая занимает тоже немалую часть.
– Это с лёгкой руки Саши Баргмана.
– А потом пошёл Бродский – и завязалось.
– Это случилось как-то так одновременно, когда репетировали «Лжеца» и придумали вот этого экскурсовода.
– У меня по этому поводу цитата: «Мы создали Италию, давайте создавать итальянцев». Камилло Кавур, государственный деятель, который сыграл очень важную роль в объединении Италии в какие-то годы.
– Нет, по-моему, ни одного крупного города в Италии, где бы не было проспекта Кавура. Это как у нас – улица Ленина, а там – Кавура. Гарибальди, Кавур, Данте.
– По-моему, в каждой стране есть такой свой герой.
– Да. Но тут отсылка-то историческая. Италия как единая страна – довольно молодая, она возникла как единое государство в 1861 году, после гарибальдийских войн, когда он объединил. Весь «сапог» был раздроблен, это было лоскутное одеяло. И везде, сейчас до сих пор это так, двадцать регионов, которые составляют единую Италию, есть какой-то единый общий итальянский язык, за основу взят флорентийский диалект, а в каждом регионе этих диалектов выше крыши. Зачастую это просто-напросто другие языки!
– И они друг друга могут не понимать?
– Они и не понимают. Венецианский диалект знают только венецианцы. Неаполитанский – более-менее как-то люди соображают, но всё равно. Южные диалекты, северные диалекты – мама родная.
– Вы скучаете по этим поездкам, которых не было уже четыре года?
– Да, я очень скучаю. Не потому что я так люблю заграницу, нет. Просто-напросто Италия – климат, во-первых, природа, люди.
– Ну и вы так её поизучали, она стала родной.
– Да, почти.
– Семь лет вы ездили подряд?
– Восемь лет я туда ездил. Там ещё столько неизученных регионов осталось! Чуть-чуть вернусь – как это началось. Мы репетировали «Лжеца», придумали этого экскурсовода, Саша говорит: «Вот сюда вот надо текст какой-то, сюда Бродский пойдёт... Посмотри какие-нибудь названия венецианских улиц».
– Просто на карте?
– Да. Я где-то достал карту, что-то такое там... Выпустили спектакль, какие-то названия вставили. Спектакль вышел в марте, я думаю: «Мама родная, ну как это – мы играем про Венецию – и не съездить?» А у меня «итальянских» спектаклей было много: и Де Филиппо мы играли, и Гольдони, что-то ещё было. Я купил путёвку и поехал. Первая неделя с туром в автобусе по городам – я проклял всё, понял, что больше я в такие туры не сунусь.
– Так – не надо.
– Да, во-первых, это всё наскоком, очень быстро, ты ничего не успеваешь даже запомнить. Ну что такое полтора часа на Флоренцию? Что такое час на Венецию? Это издевательство. И потом, это ещё дикая трата денег. Ты что-то оплатил – нет, вы оплатили как бы поход в музей, но билета вы не купили, как? За что я отдал такие деньги? Но дело не в этом. Потом я ещё неделю просто сидел в Римини и уже сам оттуда ездил. И мне стукнуло в голову – я больше никуда не хочу, там 65% мировой художественной культуры, шедевры, архитектура, живопись, ваяние, музыка, кухня.
– На всю жизнь хватит изучать.
– Да, изучать и изучать. Рим – я образ такой придумал для себя – это такой комод заядлого путешественника, в котором нет порядка: он просто туда всё запихивает, потому что в одном и том же месте. Там есть совершенно чудесный район, Римское гетто, это еврейский квартал. Вроде, ты приходишь – гетто, архитектура немножко другая, стоит синагога большая, намёки на кошерные рестораны – и вдруг колоннада, Древний Рим, это с тех пор ещё осталось, маленький кусочек какого-то здания. И там весь Рим вот такой. И каждый город имеет своё лицо, свою какую-то историю. Даже маленькие городки. Я их очень полюбил. И с тех пор – спасибо, Саша Баргман – я начал и язык учить, заниматься языком, и постоянно туда ездить. И каждое путешествие заканчивал в Венеции, без неё я уже не могу.
– А переводчиком вы в этот момент стали?
– Потихонечку. Не в этот момент, но в этот период, скажем так. Тоже мы что-то с Русланом читали чью-то статью, какого-то критика, какой-то женщины-театроведа. По-моему, это была даже супруга Александра Сергеевича Кузина, она упоминала пьесу Эдуардо Де Филиппо «Искусство комедии». Стали искать – что-то не нашли. И через старого своего друга, итальянца Паоло Эмилио Ланди, который ставил у нас спектакли, мы нашли этот текст, он нам прислал текст. Я думаю: дай-ка попробую, почему бы нет. Конечно, словари и так далее... Мы этот текст перевели!
– Адаптировали?
– Мы поняли, что пьесу эту ставить нельзя.
– Почему?
– Потому что это декларация. Это пьеса-декларация. Потом выяснилось, что и в Италии Де Филиппо сказали: «Ты что делаешь, кто это будет смотреть?» Это отношение театра и власти. Два акта, в первом акте – выяснение отношений худрука бродячего театра и мэра города, а потом второй акт, там уже пошла игра, но тоже очень скользкая. Это пьеса, которая будет понятна только именно театралу.
– Этот материал так и остался пьесой.
– Да, он так и остался. Я потом всё-таки нашёл где-то перевод, ещё старый советский.
– Сравнивали?
– Сравнивал. Мой точнее по одной простой причине – очень многое тот переводчик отрезал. Там огромный монолог в начале есть, он первую сцену пролога просто убрал, она ему оказалась не нужна, а она важная.
И вот так вот оно и пошло – катался, катался и докатался. Сейчас пока – в силу понятных причин – поездки сложны. Но, дай бог, мы соединимся. Там хорошо, там очень хорошо бывать. Бывать. Жить – вряд ли я смог бы там.
– Видите, неслучайно все эти события так, формируют вас. Живите здесь, вы нам нужны.
– Я местный, совершенно местный. Но бывать там – очень хорошо. Столько там музеев исхожено, столько пересмотрено. В каждом городе, куда я приезжал, я обязательно шёл в музей, чтобы посмотреть именно эту художественную школу, потому что они отличаются. Перуджинская школа от венецианской, от флорентийской, умбрийская живопись, римская живопись, живопись Ломбардии. Юг, вообще замечательно колоссальный юг.
– Про художника – только немножечко в детство хочу уйти. «Каждый ребёнок – художник, но проблема в том, чтобы остаться художником, когда вырастешь». Пабло Пикассо.
– Он прав, ой как он прав.
– А вы остались тем художником?
– Я очень хочу на это надеяться по одной простой причине: мне всё ещё хочется удивляться.
– А с возрастом это так тяжело.
– Это тяжело, да. Но мне очень хочется. Почему в самом начале разговора я говорил о впечатлениях – они необходимы. Без впечатлений артисту жить невозможно, мы этим питаемся. Как раз у меня сейчас довольно плотное общение с детьми, именно с детьми – 8, 10, 11 лет – в нашей театральной школе. Я немножко начинаю опасаться за них.
– Они не умеют удивляться, не умеют радоваться?
– Они не то что не умеют. Они не очень этого хотят. Они, по-моему, не очень понимают, что это такое. Вот зло. Они сидят здесь. [Показывает смартфон.]
– Опять мы приходим к этому.
– Да, они сидят здесь, я их всё время спрашиваю: «Ребята, у меня было такое, когда по причине жуткой занятости я 2–3 года пропускал – я обожаю тот момент, когда весной начинают пробиваться листочки из почек. Вот этот зелёный цвет – нежнейший».
– После долгой грязной зимы.
– Меня это просто до экстаза доводит. И я его пропускал. «А вот вам как это?» Они: «А зачем?»
– Может, не доросли ещё?
– «А первая трава? Разница между весенней грязью и осенней!» Они: «Ну, она же грязь». «Но весенняя – бог с ней, она высохнет, ты её почистишь, постираешь – но там качество другое. Неужели вы этого не видите? Неужели вы этого не понимаете?»
– «Читать книжки? Да зачем, вот кино посмотрим. Да, мы видели “Властелин колец”». – «А вы его читали?» Книга это всё-таки – вы своё кино снимете у себя в воображении. То, что там товарищ – как его фамилия, Джонсон, то, что он сочинил, это его видение этой истории. Да, оно красивое, оно эффектное. Но я, например, не со всем согласен, смотря фильм. Мне кажется, он действительно снял роскошную эпопею, но по уровню размаха он до Толкина не дошёл. То, что сделал Толкин, это не повторить, тут вины Джонсона нет, вины режиссёра, не помню его фамилии, разберёмся потом, пусть он меня простит.
– И потом, читающий же всегда в выигрыше, чем смотрящий.
– Да. Он создаёт свой мир. Вот этот, который Толкин придумал – и нам: «Ну-ка, давай, придумай его со мной вместе!»
– Вам страшно от этой ситуации, что они такие сейчас?
– Да. Меня это пугает. Тенденция какая-то устрашающая. Я же это смотрю ещё по студентам, вроде уже 18–20 лет, но это поколение уже неначитанное, ненасмотренное, ненаслушанное.
– Билл Гейтс убил человечество?
– По сути дела – да.
– Что с этим делать?
– И я не думаю, что это Билл Гейтс убил. Человек падок, человек слаб: о, удобно! Давай! Ведь сколько сейчас лентяев в доме. Вот эта Алиса: «Алиса, включи». Сам встань, включи. Моторику-то развивай, не забывай.
– Движение – жизнь.
– Включи свет – включила. Включи музыку – включила. Поговорить? Я уже с роботом разговариваю! Ну ребята, это нормально разве? Да, может быть, это удобно, но я у себя в доме такого заводить не хочу. И вот с теми же студентами... На самом деле это просто боль моя. Когда ты начинаешь репетировать, говоришь: «Помнишь, в этом фильме! А, не смотрел». «Помнишь в книге... А, не читал». Картину – не видел.
– О чём говорить?
– Я понимаю, что мы на один язык как-то не выходим, а это необходимо, иначе сговора не будет, иначе я спектакль с вами не сделаю. Иначе вы, извините меня, в профессию придёте (дай бог, если придёте) ущербными, недоделанными.
– Они слышат вас?
– Я очень на это надеюсь. Кто-то слышит, кто-то растёт.
– Как-то же надо искать к ним подход.
– Что я и делаю. Дело-то, видите, в чём: и Билл Гейтс, и Болонская система... ЕГЭ – это наш бич, особенно в творческих вузах, потому что школа сейчас отучила детей думать, они не умеют размышлять, не умеют рассуждать. Мало того, они не любят этого делать. Вот, можно же всё найти [показывает на смартфон].
– Это же лень. Можно заставить мозг работать, анализировать, рассуждать.
– В том-то всё и дело. На самом деле до смешного доходило с прежним курсом. Они как-то так – слышу звон, да не знаю, где он. Там была большая авантюра у меня, я взял в работу «Одиссею». Ни много ни мало. На этот спектакль я убил год. Год! Во-первых, надо было сократить очень много, и ребята очень долго привыкали к этому очень старому языку – гекзаметр. Мы читали фразу – а теперь давайте на русский язык переведём.
– И выговорим её.
– И выговорим. Про что! Чтобы понимать, про что. Я уже в какой-то момент был в отчаянии, но вдруг что-то где-то у ребят щёлкнуло, они этот язык освоили, мы спектакль сделали. Но в процессе был такой момент: одна девочка спрашивает: «Олег Александрович, что такое? Вот он говорит “к Пенелопе, к Пенелопе!”, а то с этой ляжет на ложе, то с этой. Что это такое, как?» Я говорю: «Поймите пожалуйста, вы рассуждаете в нашей библейской парадигме, в которой мы воспитаны. А у греков возлечь на ложе – это как у нас просто за руку поздороваться. Это дань уважения, не больше. Она: «Да ну ладно?» Я: «Хорошо, смотрите. Берите ту же самую Библию, самое начало, Книгу Бытия. Бог создаёт Рай, запускает туда зверей и птиц, он им говорит фразу, вы её слышали как пить дать. Два глагола, один союз». Пауза, большая-большая пауза, скрип мозгов я слышу, вдруг такой робкий девичий голос: «Спаси и сохрани»? Вместо «плодитесь и размножайтесь». Вот, уже замещение. Они: «А, да!» А подумать? А включить голову?
– Для чего всё это.
– Но я после этой истории полдня хохотал как безумный, потому что это было правда очень смешно. «Спаси и сохрани». Дело-то не в том, что я чуть-чуть дольше них живу, у меня прочитано больше, начитанность больше, я знаю немножко больше. Но неужели вам не хочется самим тоже что-то добрать?
– Нет рвения и тяги? Это же должно быть.
– Они какие-то не пытливые, у них нет интереса к жизни, вот именно у поколения, это какая-то поколенческая беда.
– Любопытства нет.
– Потому что всё есть. Это беда нынешней нашей потребительской парадигмы. Не ищи, а потребляй, покупай, бери кредит – и покупай. И вот эта тенденция – страшная. На государственном уровне, когда бывший министр (тогда ещё министр образования) говорил: «Нам нужно воспитать общество потребителей». Это преступление.
– Я с вами согласна.
– Из этих ребят новых Толстых, Чеховых – не будет.
– Нужно бить уже во все колокола.
– Мы уже сколько потеряли поколений таких.
– Прямо Армагеддон.
– Армагеддон, на самом деле да.
– Есть ещё одна фраза, на мой взгляд, очень замечательная и универсальная, это фраза вашей мамы, которую она произнесла ровно тогда, когда вы выбрали свой профессиональный путь. «Если это будет ошибка, это будет твоя ошибка». Мне кажется, в этой фразе всё: и родительское благословение, и некая свобода выбирать и решать самостоятельно, и нести ответственность за этот выбор. Но мы уже видим, что ошибки не случилось.
– Ну, это вы видите.
– А вы – как видите? Я хочу узнать.
– Я с этой фразой иду по жизни и, скорее всего, с этой фразой буду идти до конца.
– Были ли какой-то момент, когда вы сказали сами себе, что да, я всё правильно сделал?
– Мне кажется, что если я так себе скажу, я закончусь. Хотя бы некий элемент сомнения мне просто необходим, чтобы просто не успокаиваться. Я очень боюсь успокоиться, я просто физически этого боюсь, что в какой-то момент мне станет всё пофигу – это я знаю, это я знаю, и всё, существовать просто так, сидя на лавочке, мне не хочется. Пока есть возможность бегать, что-то делать – я буду бегать, поэтому я и хочу кататься, ездить, смотреть, хватать, тратить какие-то сумасшедшие деньги на те же музеи. В Капитолийский музей в Риме я пошёл – надо сходить вроде, Капитолийский. 15 евро билет! Сумасшедшие деньги! А потом я понимаю, когда я прошёл по этому музею: это не деньги! То богатство, которое в этих музеях... Причём не самый популярный музей, как ни странно, там не так уж много народу. В самом центре, на Капитолийском холме, пожалуйста, площадь, спроектированная Микеланджело, Марк Аврелий стоит. Там собрание просто капитальное какое-то, сумасшедшее! И сами интерьеры дворцов, и те картины, и скульптуры, и собрание античных древностей. Потом ты идёшь по подземному переходу, где основания древнеримских статуй стоят разные – было так, вот так. Потом ты можешь выйти на балкон, на римские форумы посмотреть. Капитолийскую волчицу я настоящую видел там. Так что пока я могу думать, что я где-то ошибся, я ещё живой.
– Такая лакмусовая бумажка, с которой вы сверяетесь постоянно.
– Эта фраза была произнесена тридцать четыре года назад: четыре года института и тридцать лет здесь. Она вот здесь [указывает на лоб]. Она со мной постоянно. Мама её не помнит, я ей как-то напомнил, она: «Да ну». «Ты так сказала». «Да? Не помню. Неважно».
– Главное, что вы помните.
– И я очень хорошо помню, как она это сказала. Она сказала это очень строго, сурово, вот так вот с пальцем. «Хорошо, езжай. Но если это будет ошибка, это будет твоя ошибка». Они очень не хотели с отцом этого.
– А мы вас поздравляем с юбилеем творческой деятельности.
– Он будет в июне.
– Он будет, но это год уже юбилейный, он начался.
– Юбилейный. Мы как-то так совпали с театром.
– Неслучайно.
– Ну ещё и мой личный юбилей тоже, 50 лет.
– Это всё неслучайно. Желаем вам неиссякаемой энергии, вот этого желания жить, творить, создавать, просвещать. Спасибо вам за то, что к нам пришли.
– Спасибо вам большое. Зовите, если что.