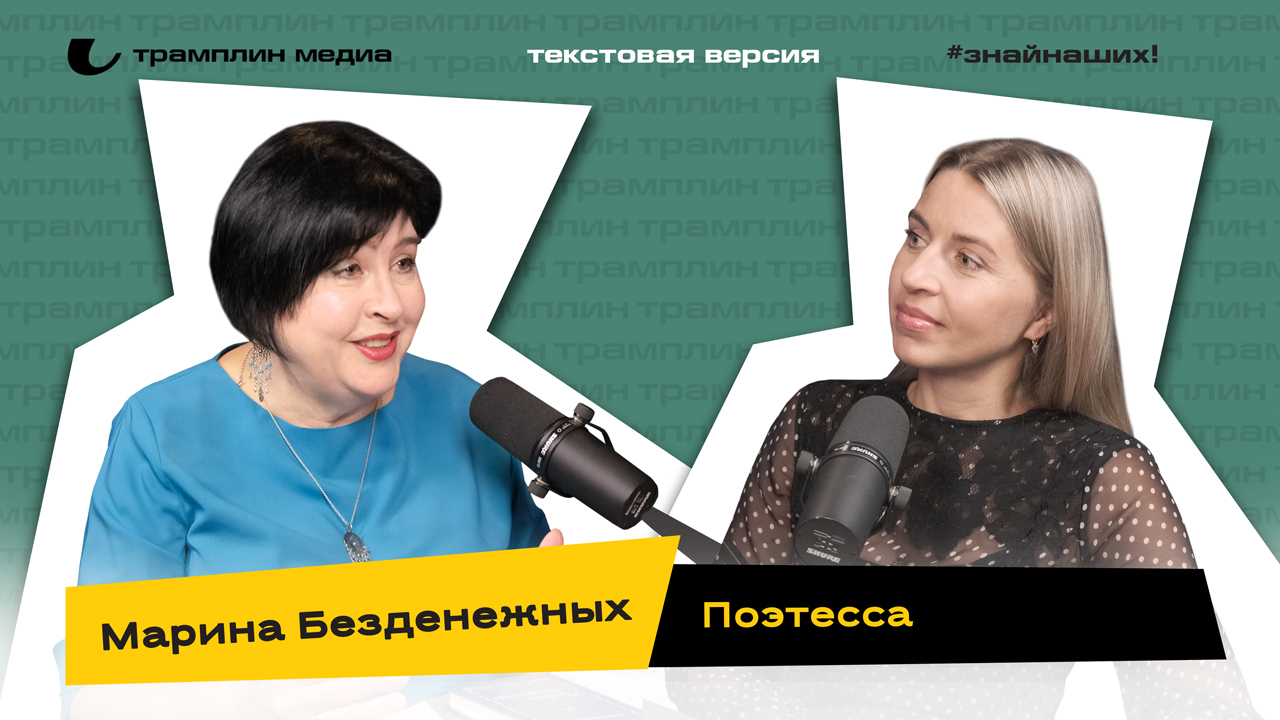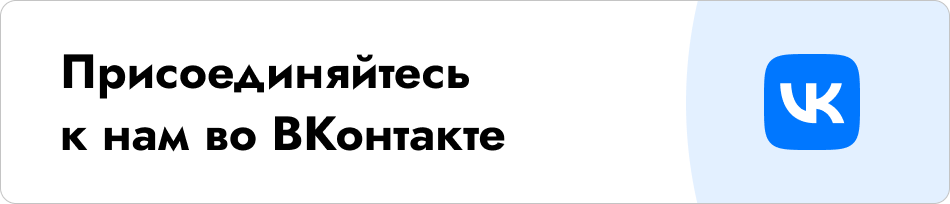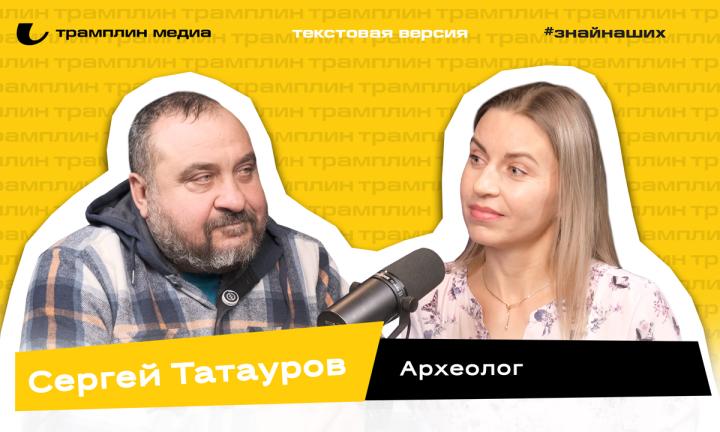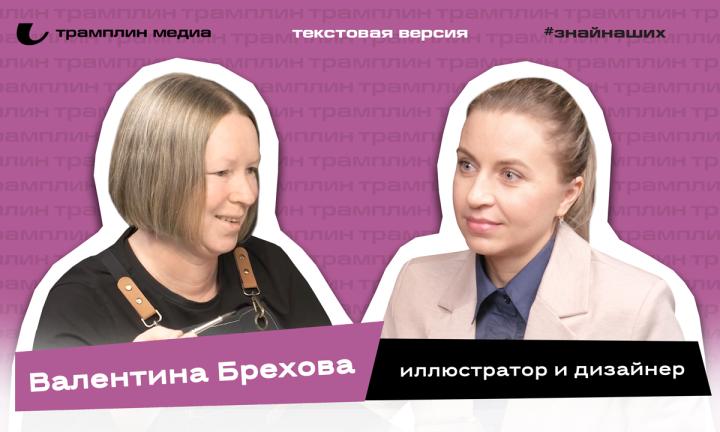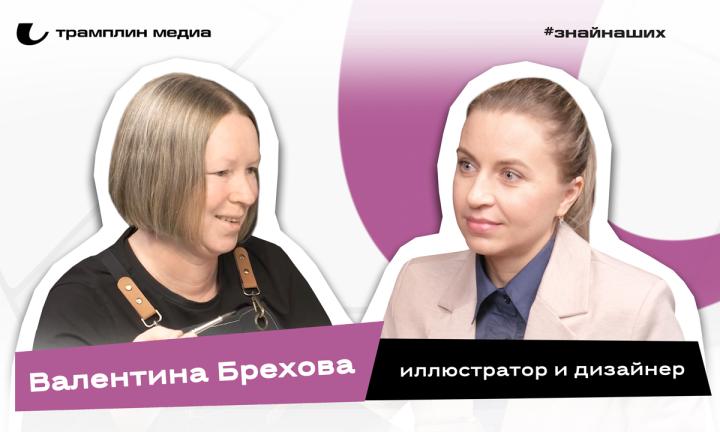Дата публикации: 2.11.2024
Для тех, кто любит читать, текстовая версия подкаста «Знай наших!» с Мариной Безденежных.
– Это медиа «Трамплин» с подкастом «Знай наших!». Здравствуйте. Сегодня мы пригласили в гости поэта, кандидата филологических наук, члена Союза писателей России Марину Безденежных.
Марина Александровна, здравствуйте.
– Здравствуйте.
– Всё-таки, Марина Александровна, кого в вас больше – поэта или педагога?
– Я призадумалась над этим вопросом. Женщины. Выбор из двух вариантов меня не удовлетворил.
– То есть просто человека.
– Да, просто человека, потому что это очень разные вещи: педагог – это официальная профессия, даже не педагог, а филолог, потому что педагог может быть и стихийным, человек может не обучаться педагогике, но работать с детьми, со взрослыми, чем-то делиться, чему-то учить, может быть, даже не осознавая, какие он использует приёмы и методы. И слава богу! Это обычно лучше получается, чем когда люди это делают осознанно.
Поэзия – это то, что от нас не зависит, это то, что мы не выбирали, наверное. Это то, что пришло – и уже никуда не денешься, хотя иногда пытаешься.
– Когда к вам это пришло? Вы помните тот момент?
– Не так чтобы в деталях, но примерно – да, с помощью воспоминаний моих родителей. Как-то это уже осталось в мифологии семьи. Первые стихи я написала в пять лет, их записала моя мама, потому что я тогда лежала с сотрясением мозга, с горки зимой меня уронили «аккуратно», и после этого мне пришлось долго лежать, мне не разрешали читать – читала я тогда много и хорошо, всё подряд, где есть буквы: художественную литературу, газеты, объявления, всё что угодно. Можете представить, что было в голове. А когда у меня отняли эту возможность, велено было тихо лежать и книжки не трогать – вдруг начались стихи. Вот так оказалось: безумно хотелось лимонов вместе с кожурой – и писать стихи.
– То есть не было бы счастья, да несчастье, что называется, помогло.
– Такую шутку мы иногда используем с моей подругой, поэтом, руководителем нашей писательской организации Валентиной Юрьевной Ерофеевой-Тверской. Как на выступлении рассказываем, с чего начиналось, упомянули детские травмы – она с качелей падала, я с горки. И кто-то всерьёз воспринял это как рекомендации к действию. Пришлось даже объяснять, что это шутка, что упасть можно по-разному.
– Не следует повторять. Опасно для жизни и здоровья.
– Не следует повторять, да. Как бывает иногда: какие-то трюки по телевизору показывают, и «не повторяйте это, показывали профессионалы». Вот и мы можем так же.
– Родители тогда обратили внимание на этот момент? Вот, ребёнок лежит в состоянии, так сказать, не очень здравом – и пишет стихотворение.
– Раз мама его записала, значит, обратили внимание. Но никто на этом не концентрировался, никаких далеко идущих выводов из этого не делал. Потом я благополучно поправилась, стихи, кстати, прошли на какое-то время – уже лет до двенадцати, наверное, я практически не писала. А потом это вернулось, снова начались стихи, но уже совсем другие, правда, не взрослые. Я начинала писать с детских стихов.
– Про щенят.
– Да, было про щенят. Откуда вы знаете?
– «Слава богу, не про любовь» – сказал Тимофей Белозёров, когда познакомился с вашим детским творчеством. А вы помните эти стихотворения? Можете их прочесть?
– Которые я тогда писала, которые Белозёрову?
– Да, про щенят.
– Оно никогда не печаталось, сейчас вспомню. Правда, оно такое корявое, неловкое, да простят меня мои ученики.
– Да ладно, это же детское.
У нашей Дианы четыре
весёлых пушистых щенка.
Они расползлись по квартире,
четыре курносых комка.
Как Динкины – лапы и уши,
хвосты – как у Динки хвост,
как Динка, любят покушать
и всюду суют свой нос.
И страшно мне даже подумать,
что всех их придётся отдать,
что скоро они нас забудут,
не будут даже скучать.
Не станет никто после школы
меня у дверей встречать,
не станет за пятки голые
меня под столом кусать.
Вот такое. Я не помню, во сколько лет оно написано, но это из очень ранних.
– Оно прелестное, такое милое.
– Классе в пятом-шестом, наверное, это было.
– А вы помните вашу встречу с Тимофеем Белозёровым? Как он вообще вас приметил, как взял под своё крыло? Я так понимаю, он всё-таки большую роль сыграл в вашей жизни.
– Я Тимофея Максимовича считаю практически своим первым учителем. Потом уже Татьяна Георгиевна Четверикова меня приняла в свои тёплые руки и в литературное объединение. А к Белозёрову меня направил Михаил Петрович Малиновский, омский прозаик. Он тогда работал литературным консультантом при Союзе писателей, тогда была такая должность, и даже небольшая зарплатка, чего сейчас вообще не существует, мы все работаем на общественных началах. Хотя выполняем ту же работу, так же работаем с молодыми и не только, я веду литобъединение много лет. Времена были немножко другие. На одной из встреч случайно – тоже забавная история – я занималась бальными танцами в Дворце культуры «Юность», туда однажды зимой в большой мороз на встречу пришли писатели, а читатели, видимо, из-за погоды не пришли. И наш коллектив бального танца попросили прийти на встречу и изобразить благодарных читателей.
– Вот это случай! Неожиданное совпадение.
– А я писала тогда, но писала в стол, не сильно афишировала даже родителям не очень об этом говорила, прятала свёрнутую в трубочку тонкую в клеточку ученическую тетрадку за ящиком письменного стола. Так выдвигаешь, а там ещё немножко места остаётся, у меня был тайник. Я думаю, родители всё прекрасно знали, но не мешали мне иметь свои секреты.
– Не трогали ваш мир.
– Не трогали, да. В этом плане бережно относились – к таким неопасным секретам. Малиновский был уверен, что в зале люди заинтересованные, пришедшие сюда не случайно, задал вопрос: «А вы, ребята, пишете?» И я так внезапно созналась. Меня пригласили в Союз писателей со стихами. Я говорю: «А сколько принести?» Мне: «Ну сколько – пять, десять, сколько есть». У меня и было тогда пять-десять, наверное, что-то там дописывала судорожно. Пришла тогда сначала на встречу с Малиновским, поговорили, он посмотрел мои стихи, потом мы с ним через пару месяцев сделали передачу на радио в «Бригантине», потом ещё одну. А потом он отнёс мою тетрадку Тимофею Максимовичу Белозёрову.
– «Присмотрись!», да?
– Белозёров захотел пообщаться, пересечься. И я на подгибающихся ногах приехала в уже знакомую мне атмосферу Союза писателей, мы тогда так ко всему этому трепетно относились, с таким уважением, с таким благоговением – все молодые, кто приходил. Сейчас немножко другое отношение, другая интонация. Начинаю уже ворчать...
– А вы чувствовали уже, что попали в эту счастливую струю? Волновались перед встречей?
– Волновалась очень, да. Я не видела Белозёрова живьём тогда, интернетов не было, а в детских книжках, какие у меня были, были яркие иллюстрации, в том числе в белозёровских книжках, а портрета автора не было. Я его представляла почти как Льва Толстого – такого внушительного, за письменным столом, глыбу, человечище. А когда вошла – там такой достаточно компактный, взъерошенный, очень смуглый, немножко нахохленный, угрюмоватый человек сидит за письменным столом – без всякой бороды, листает мою тетрадку. Он со мной даже не поздоровался! Я зашла, поздоровалась, а он так листает мою тетрадку и говорит: «Надо же, как хорошо, что...» Вы уже сказали: «...не пишет про любовь и про берёзки». Он порадовался этому. Поэтому, когда в перспективе стало что-то появляться про любовь, я Белозёрову не показывала. Я Четвериковой Татьяне Георгиевне эти стихи носила.
– Любовная лирика началась уже попозже.
– Попозже немножко.
– Давайте прочтём. Что вы утаили от Белозёрова?
– Хорошо. Тогда вот такое стихотворение.
Как трудно о любви сказать самой,
а взглядов он моих не понимает.
Уйдёт – я прокричу: «Любимый мой!»
Но эхо окончаний не меняет.
Видимо, уже тогда что-то филологическое во мне проклёвывалось.
– Это ещё вы писали, получается, до поступления.
– Конечно, это школьное стихотворение.
– Школьное стихотворение вполне взрослого человека.
– Или ещё такое про любовь. Оно было написано длинным, у меня тогда ещё почему-то писались длинные стихи, как у многих начинающих. А когда Татьяна Георгиевна полистала мою тетрадку, увидела стихотворение, из которого я сейчас часть прочитаю, говорит: «Ой, надо же, нормально. Надо вот это только отрезать, вот это надо отрезать». После того, как лишнее отрезали, вот то, что получилось.
Я оказалась как всегда права,
хотя мне так хотелось ошибиться,
но ты такие говорил слова,
что я себе позволила влюбиться,
я плюнула на дружеский совет,
я возрасту не придала значенья,
я думала – бывают исключенья,
а оказалось, исключений нет.
Это то, что осталось, и оно стало каким-то вневозрастным, это стихотворение. Его мог, наверное, написать и человек чуть постарше. А я скажу, с чего оно начиналось, и сразу станет понятен возраст. Из отрезанного, начиналось оно так: «Ну что, пацан, прошла твоя любовь?»
– Вот это да!
– Это была самая гениальная строчка.
– Тут подростковость даже чувствуется. И некий наезд.
– Да, такой вызов, дерзинка.
– А когда вы поняли, что действительно при написании стихотворений есть некие каноны? Вы до встречи с Четвериковой, с Белозёровым наверняка писали, как пишется, как это всё исходит от вас – слог, ритм. Потом вы меняли себя?
– Я тогда писала, как пишется, мне страшно в этом признаться: я и сейчас это делаю, пишу, как пишется. Но учитывая, что я безумно много читала, вероятно, как маленькие дети – до сих пор все поражаются, как дети с двух до пяти оказываются гениальными лингвистами. Из того, что они видят, слышат, они вырабатывают собственную языковую систему.
– И какое-нибудь своё слово как скажут.
– Они этим пользуются, и очень часто пользуются правильнее, чем мы. Они не знают исключений, поэтому живут, скажем так, по каким-то системным моментам, по законам.
– Такие внутренние ваши конструкции.
– Они ведь тоже видят, слышат, и если у них нормальное окружение, то они впитывают хорошую грамматику, хорошую стилистику. У меня было, слава богу, хорошее окружение, любящие люди, много читающие, умеющие говорить, любящие играть со словом, даже иногда озорничать, такая языковая игра ироничная. И огромное количество прочитанного. Оно всё равно давало представление о каких-то канонах, о какой-то базе. Просто ты не выучиваешь правила, а ты осознаёшь, что это делается так.
– Ты живёшь уже этими правилами.
– Ты уже видишь, как они работают и, естественно, на них подсознательно ориентируешься.
– А что вдохновляло? И вдохновляет сегодня?
– Ну, что-то должно тряхануть. Я когда-то – уже достаточно взрослым человеком – написала:
Что перевесит – нет или да, мой или жизни норов?
Повод для песни – любовь и беда, всё остальное – норма.
Вот норма – не цепляет. Обязательно должно что-то тронуть, впечатлить.
– Будоражить что-то должно?
– Очень не хочется, чтобы это была беда; очень хочется, чтобы это была любовь, потому что любовь – то, на чём держится всё, на чём этот мир держится.
– Любовная лирика – это основа, наверное, вашего творчества?
– Не любовная лирика основа творчества, а посыл. То есть то, что подвигает на написание стихов, это всё-таки в первую очередь любовь. И даже если беда становится поводом, причиной, толчком к появлению каких-то горьких, больных, очень тяжёлых строк, которые не так легко выплёскиваются, которые выплакиваются, то это всё равно любовь, но это её потеря или предощущение потери. Я даже сейчас не о любви мужчины и женщины, хотя это тоже. О любви к близкому человеку, который на твоих глазах уходит; о любви к детям, за чью судьбу в нашем сложном мире ты очень тревожишься. Это всегда любовь.
– Всё равно это всё волновать должно?
– Разумеется. Я даже не представляю, как писать стихи, не волнуясь. Я знаю, что есть люди, которые могут даже длинно, даже складно, даже гладенько писать на любую тему, про что угодно.
– Это рифмоплётство?
– Не хочу, чтобы слишком оценочны были мои суждения.
– Но, скорее всего, да.
– Скорее всего – да. Я всё-таки сужу по себе, по тем, кого я знаю, чьё творчество мне близко, кого я люблю как людей, пишущих талантливо, остро, больно.
– А тяжело ли даётся выплеск этих эмоций, этого всего, что будоражит и волнует? Или вы пишете легко и сразу?
– В детстве, в юности я писала легко и сразу. Даже Татьяна Георгиевна когда-то сказала, что знает только двух человек, которые сразу пишут чисто.
– Не исправляя?
– Да. Я, естественно, работаю и сейчас, бывает, шлифую какие-то строчки, мне может не нравиться одно слово, я могу к нему достаточно долго придираться, обкатывая, прокручивая в памяти, пытаясь найти более точное, более подходящее слово. Но когда-то – когда я была очень юной – в одной из передач по телевидению, встреча с каким-то известным поэтом была, я возмутилась его ответом на вопрос кого-то из зрителей, его спросили примерно то же, о чём вы сейчас: трудно ли писать стихи? Он говорит: «О, это тяжкий труд». А я подумала: «Врёт!» Потому что мне тогда легко писалось, я увидела, что месяц в небе уже становится месяцем, а не большой круглой луной, думаю: наверное, его кто-то там, как леденцовый петушок, облизывает, он тает. У меня сразу появляется детское стихотворение по этому поводу:
Будто леденцовый месяц за окошком,
кто-то этот месяц лижет понемножку.
Надо что-то делать, может, кто-то знает:
разве ж это дело – месяц в небе тает!
У меня стихи появлялись очень быстро. Да, это тоже было какое-то потрясение, какое-то впечатление – не только от внешнего вида, а от того, какие с этим связаны ассоциации. Вот она была большая и круглая, а вот кто-то уже к ней, как к леденцовому петушку, присоседился и пользуется, скажем так, нашей общей луной где-то в небе нахально. Я немножко сейчас утрирую ситуацию, шучу, конечно. А потом, через какое-то время, я поняла, что этот ответ был честным – он просто был более взрослым. И действительно, иногда пишется более-менее легко, быстро формулируется, оказывается уже доношенным до записи. А самые пронзительные, самые, может быть, глубокие стихи даются очень болезненно. Причём проблема не в том, что ты долго и мучительно подбираешь рифму, это тоже бывает, но это не то, что болит в процессе, это уже шлифовка на выходе, уточнение чего-то. А когда ты ищешь слово, то, которое передаст и радость, и боль так, как оно есть на самом деле. Так, как оно у тебя болит, ты ещё не знаешь, каким это словом может быть выражено.
– Меткое?
– Меткое, точное... Настоящее. Одно из важных для меня слов, критерий, по которому я оцениваю книги, иногда людей – настоящее.
– Ещё вы говорили, что подходите с требованием, что ли, к своим стихотворениям: они должны и через десять, двадцать, через много-много лет при прочтении давать человеку эти же эмоции. Вы сейчас применяете это требование?
– Это неотменяемое требование. Как здорово, что вы его уже за меня сформулировали, потому что это моя родная формулировка.
– Вспоминаете те эмоции, это всё сейчас проживается? Когда-то оно было прожито, а сейчас?
– Если мне тогда, когда стихотворение писалось, удалось найти правильное слово, настоящее слово, то оно сработает и через десять, и через пятнадцать лет. Так бывает, это касается не только моих стихов, разумеется. Бывает, вдруг перечитываешь или слышишь давнее стихотворение, своё или чужое, и мой главный нефилологический критерий срабатывает...
– Мурашки по коже!
– Мурашки по коже.
– Я тоже всегда на это ориентируюсь.
– И когда своё – да, чем ты как будто бы давным-давно переболел, а ком в горле тот же. Это не к каждому стихотворению относится, хотя этот подход стараешься к каждому применить. Но самые, может быть, тяжело писавшиеся стихи, самые трудно выплаканные, бывает и такое, действительно мечешься по квартире, ходишь, как маятник, ревёшь и пишешь. Или еду в маршрутке на работу, плачу, пишу стихотворение, придумала всё, забегаю – надо на лекцию идти, сразу побежала, не записала ничего. Я через месяц только вспомнила, что написала стихотворение, посвящённое дочери, и оно было хорошее. А я из него смогла вспомнить только одну строчку. Пишется иногда очень больно, но если ты сохранил, когда так написано, оно потом будет откликаться и много лет спустя.
Может, что-то почитать пока?
– Давайте. То, которое прямо тяжело писалось, может быть.
– Которое тяжело писалось...
– Которое выстрадано.
– Раз уж я сейчас вспомнила стихотворение, от которого осталась одна строчка... Она стала эпиграфом к другому стихотворению, у меня один из самых дорогих мне циклов – цикл «Дочь». Я не пишу стихи сразу циклами, просто у меня они коротенькие обычно, так появляется стихотворение, и ты понимаешь, что ему в стае с другими, близкими по теме, по интонации, будет теплее, и они как-то сбиваются в циклы, как сбиваются в стаи. Иногда.
«Маленькая моя, какая же ты большая!» (из ненаписанного стихотворения)
Наши песни и ваши – Зюскинд или Гайдар –
всё не главное, важен по замаху удар.
Чтобы ноша – по силам, чтобы рядом плечо,
чтоб любили красиво, да и ты – горячо.
На других не равняясь, чтобы всё же семья,
только ты уж, родная, будь счастливей, чем я.
Это из цикла «Дочь», но уже взросленькое такое. А чуть более ранее – потому что этот цикл начинался, когда дочка была совсем маленькая, вот такое ещё оттуда прочитаю, я его люблю просто.
Кошик, малышик, куда ты всё время мостишься?
Книжку сбиваешь и локтем врезаешься в бок...
Но как подумаю – вырастешь и не простишь мне
всех бесконечных увёрток, работ и забот...
Что же, давай помурлычем, носами потрёмся,
эта щекотка ресниц – наш секретнейший знак!
С ним не поссоримся, не предадим, не сорвёмся.
Бабушка раньше тоже умела так...
Это такие очень простые стихи. У меня вообще стихи достаточно простые, как я даже когда-то написала:
Дышу как все – изысканная гордость,
куда мне прозревать, вещать, парить!
Живу как все, терплю, я только голос
для тех, кто не умеет говорить.
Вот такое смирение паче гордыни.
– Очень хороший голос.
– Ну и я не знаю, какие там ещё вопросы, но что-то про любовь, наверное, надо было бы прочитать.
– Давайте про любовь.
– Тогда, раз уж мы говорили, что это то, на чём всё держится, что каким бы ни был посыл, светлым или горьким, за ним всё равно стоит любовь. Так уж к слову пришлось, я думаю, это хороший мостик на перспективу, вдруг одна из будущих встреч – через два, три, четыре месяца – здесь состоится в связи с выходом книги «Любовь среди миров», которая сейчас проходит предпечатную подготовку, которая уже собрана редактором-составителем Юрием Петровичем Перминовым. Нам только вчера и сегодня кусочки фотографий обложки Юрий скинул в писательском чате, мы уже в предвкушении, в предощущении. Я очень хочу эту книжку. Это будет книга стихов о любви, там будут в том числе и мои стихи, и стихи ещё более ста шестидесяти поэтов, причём ещё с XIX века начиная. Но это стихи поэтов, чьи судьбы так или иначе связаны с Омском. Более шестисот страниц! Книжка будет небольшая по формату, такого же размера, как «Координаты СВОим».
– Мы об этой книге тоже говорили.
– Да, поэтому я не предполагала сегодня о ней говорить отдельно. Такой формат, о она будет практически в два раза толще, такой кирпичик. Как Юрий Петрович говорит: как Библия по толщине. Но это будет, да простят меня люди глубоко верующие, Библия Любви. Такое бывает? Наверное, так оно и есть.
– Конечно, почему бы и нет.
– Почему бы и нет. Тем более, в конце концов, и Священное Писание – по большому счёту это тоже про любовь. Я не о плотских вещах, я об общечеловеческих. Поэтому ждём, очень хочется эту книгу, совершенно честно скажу.
– Давайте презентуем чуть-чуть, хоть кусочек.
– Я немножко прочитаю из того, что туда всё-таки, насколько я помню, войдёт. Я даже закладки некоторые сделала. Но то того, что туда войдёт, вот такое стихотворение – как мостик. Время нам выпало достаточно сложное, и стихотворение, которое я писала в тяжёлые 90-е, вдруг мне показалось созвучным и нашему нынешнему времени.
Ожесточаюсь, жестчаю, черствею
в свете задач.
Экономичней и проще, честнее –
сердце, не плачь.
Ах, милосердие, тонкость, манеры,
что за дела.
Я отпускаю звенящие нервы,
как удила.
Держим удары, беды стучатся
наперебой.
Приобретаем стойкость к несчастьям...
А есть ли любовь?
И вот «а есть ли любовь» всё-таки.
– Оно правда созвучно и с нашим временем. Всё циклично.
– Циклично, всё по синусоиде.
– А если говорить о пророчестве? Насколько это вообще такая, может быть, страшная вещь?
– Если бы ещё чётко знать, что это пророчество, а не предощущение.
– Часто ли ваши стихотворения сбывались?
– Часто.
– То есть всё-таки поэт – он пророк.
– Почти всегда, особенно им легко сбываться, когда они пишутся постфактум, а не перед. Слово – вещь материальная, и мысль материальна, и чем старше я становлюсь, тем страшнее иногда что-то впускать в стихи – какую-то большую тревогу, какое-то предсказание. Потому что не знаешь: ты просто предчувствуешь то, что и так бы случилось, ты просто это немножко ощущаешь заранее, или ты это сказал – и оно поэтому будет. Вот что страшно. Без всякой мании величия, просто слово. «В начале было Слово». Мне кажется, сейчас оно свою силу ничуть не потеряло. Когда-то почти на рубеже веков – 2003 год – выходила у меня такая маленькая книжечка, стихов здесь, правда, много, мы тогда в подборах давали. «Покадровый просмотр». Это ещё достаточно благополучное время. Условно, смотря что с чем сравнивать. Уже прошли железные 90-е, ещё мы не вошли в нынешний непростой период. И такое стихотворение появляется.
Информация патрульно-постовая,
деловая, про погоду и про спорт.
Полудремлем, от зевоты уставая.
Апокалипсис. Покадровый просмотр.
Опять же возникает вопрос: это предощущение чего-то? Эту книжку оформляла именно вот так, тут кадры, тут попытка – XX век! – плёнку вычертить, и этот взгляд. Каждое стихотворение – это фотография, сделанная взглядом автора, это остановленное время: хорошее, не очень хорошее. Как написал когда-то один из любимых мною поэтов, Николай Глазков, увы, не омич, к сожалению, давно ушедший, богатырь, юродивый: «Мы восхваляли и прилежно хаяли сумбурное теченье прошлых лет. Эпоха превосходная, плохая ли, но у меня другой эпохи нет». У нас нет другой эпохи, мы живём здесь.
– «Времена не выбирают, в них живут и умирают...»
– Хочется, чтобы в это наше время было побольше любви, и пусть они вместе с красотой всё-таки спасают этот мир.
– А как же быть с тем, что прёт, но вы – «нет, я не буду об этом писать, потому что это окажется каким-то прогнозом»? Особенно не очень благоприятным.
– Я всё чаще задушиваю стихи на корню. Иногда я это списываю на то, что стала слишком ленивой, я знаю, как тяжело выносить и выписать достойное стихотворение, настоящее. Я знаю, что лично мне это даётся больно. Не знаю, кому как, я могу только о себе.
– То есть так насильно придавить и застопить на корню?
– Да. Когда ты понимаешь, что ты при этом всё-таки не задохнёшься, потому что, если оно рвётся так, что ты не в состоянии это удержать, оно всё равно вырвется. Но да, я достаточно часто торможу эти вещи – по разным причинам, в том числе и по той, о которой мы сейчас говорили: иногда не хочется что-то тяжёлое накликивать стихами. А иногда... У меня вот такое стихотворение было:
Лишь успевай перо обмакивать –
какие страсти, типажи!
Но жалко отдавать бумаге
то, чем хотелось бы пожить.
Иногда и хорошее отдавать жалко. Когда мы тяжёлое выплёскиваем, – это проверено миллион раз и не только мною – вылил беду, горе, страх на бумагу, и уже становится легче. Тоже у меня были строчки: «То, что выплеснешь в стихи, уже не убивает».
– Да, и в себе не удержишь всё-таки.
– Но и хорошее! Когда ты любовь выплёскиваешь в стихи, такое ощущение, что ты часть своих переживаний, которыми ты ещё мог греться, греться и греться, ты тоже отдал людям. И у тебя эта температура стала пониже, а это же жалко, начинаешь жадничать. Но тут уже всё зависит от того, насколько сильно прорывалось всё.
Если позволите, ещё что-нибудь про любовь?
– Конечно!
– Одно из давних-давних, тоже такая своеобразная визитная карточка, есть у меня цикл «Такие разные уроки», но они не про школу, там метафорика школьная немножко. Они про уроки, которые мы получаем в школе жизни.
Урок физики
Ошалеваю от рук твоих,
и снова взгляды друг в друге тонут.
Закон не писан для нас двоих,
мы сами нынче творим законы –
законы верить и гнёзда вить...
По стенам мечутся наши тени,
и значит, в силе закон любви –
закон всемирного тяготенья.
Это из очень давнего прошлого.
– В последнее время патриотических стихотворений у вас тоже прибавилось. Это связано с теми событиями, которые мы сегодня переживаем?
– Нет, не связано. Просто я в сборнике нашей писательской организации, туда, правда, вошли не только члены Союза писателей, но и наши земляки, пишущие сильные, искренние, честные, настоящие стихи, в том числе и участники боевых действий, Амир Сабиров, в частности. Я просто сюда отдала стихи, которые были написаны очень давно, но мне кажется, они были здесь уместны и созвучны. Это были стихи, посвящённые памяти дедов, погибших в Великую Отечественную войну.
– Это о той актуальности, о которой вы говорите: что и через двадцать, и через тридцать лет они должны вызывать те ощущения.
– Так получилось, что как минимум одно из тех стихотворений, что сюда вошли, памяти моего деда, Алексея Ильича Безденежных, «Зачем тебе это – болгарский и польский?», было написано в студенческие годы, ему больше сорока лет, а оно и сегодня очень-очень.
– Давайте послушаем его.
«Зачем тебе это –
болгарский и польский?
Престижней и звонче их
есть языки:
английский, французский,
испанский и прочие...»
Возможно, престижней.
А эти – близки.
Начну о лингвистике –
с гласных, шипящих;
Ружевича с полки сниму –
аргумент!
Но слов убедительных,
слов настоящих
Найти не сумею я
в нужный момент.
Ну как тут расскажешь
о папке потёртой
С рисунками деда
в отцовском столе.
Ну как тут расскажешь,
что в сорок четвёртом
Был дед похоронен
на польской земле?
А кто-то престижности
баллы считает...
Ну как им расскажешь
про то, наконец,
как, стиснувши зубы,
«Алёшу» играет
На старом баяне
мой строгий отец...
Моя кожа среагировала на очень старые стихи, на те воспоминания, с которыми они связаны, давно уже нет моего отца, почти двадцать лет, но его баян хранится в семье. Так же как когда-то дедов баян отец искал по музеям в тогда ещё Ленинграде. И когда начинаешь думать о происходящем сегодня, с ужасом перебираешь мысли: а что с той братской могилой, в которой под польским городом Мелец был похоронен мой дед, освобождавший Польшу от фашистов? Что сейчас, в этой сегодняшней ситуации? Становится просто жутко.
– Вы никогда не были там?
– Нет. И теперь уже, видимо, это почти нереализуемо. Мой дед погиб в Великую Отечественную, оба деда моего мужа, младший брат моего деда... У моего деда, слава богу, сын успел родиться – и они встретились, деду дали отпуск в связи с рождением сына. Моему отцу было двадцать с чем-то дней, и они увиделись. Я ещё не написала это стихотворение, я его пока не могу дотянуть, но там точно будут строчки «но никогда меня не удивляло, как много батя помнит об отце». Они хотя бы в глаза друг другу посмотреть успели. Мой дед погиб в двадцать шесть, командир батальона полковой разведки, орденоносец. А его младший брат погиб в марте 45-го, командир самоходки, он сгорел вместе с ней. У него в жизни ещё не было ничего, даже просто влюблённости, любви какой-то. И сегодня начинаешь думать: неужели всё снова? Ведь не напрасна же была их смерть. Казалось когда-то: это в принципе не может повториться. Поэтому надо как-то защищаться, в том числе духовно, душевно, какими-то вещами душеспасительными, духоспасительными – в том числе хорошей литературой, хорошими светлыми книгами.
– Вы это до студентов своих, до школьников доносите?
– Разумеется. Вы знаете, мы иногда ругаем наших молодых, и я себя периодически ловлю на каком-то – тьфу-тьфу-тьфу – не хочу этого слова, но предстарческом брюзжании. Иногда на встречах ребята, которые только что – ты мог их в не самый удачный момент подловить, когда они общаются на сленге и не только на сленге, когда, может быть, что-то стыдливо или даже дерзко прячут в рукаве – а потом вдруг, когда начинается искренний разговор... Я всё равно убеждена: каким бы ни было время, настоящие люди откликаются по-настоящему. Если ты открываешь свою душу, не знаю, каким надо быть нехорошим существом, мне даже слово «человек» здесь не хочется говорить, чтобы в эту душу плюнуть. И бывает на встречах с молодыми – такие вопросы задают, от которых мозги начинают скрипеть, от которых ты задыхаешься, потому что понимаешь, что об этом тебя ещё не спрашивали, и тебе хочется найти этот ответ, чувствуешь, как мозги скрипят. И мне это ощущение безумно нравится.
– Не всё потеряно.
– Не всё потеряно, да. И когда они такие пронзительные вещи формулируют, ты понимаешь, что это не могло только сейчас вспыхнуть, значит, это зрело, значит, это то, чем тоже живут, то, что беспокоит. Совсем юные люди думают о судьбах не только себя и своих близких, но о судьбах мира. Не хочется впадать в патетику, но иногда это очень сильные, дерзкие, смелые вещи, иногда – действительно сформулированные, может быть, очень даже жёстко. Я много общаюсь с молодыми – и пишущими, и просто пришедшими на встречу, даже если кого-то в обязательном порядке по «Пушкинской карте» привели в музей Достоевского или в Пушкинскую библиотеку для окультуривания. Общение показывает, что у многих эта база есть. И даже они долгими зимними вечерами, если читают блоги в интернете или «Ведьмака» Сапковского, ещё что-то, мы же обмениваемся впечатлениями – всё-таки интересно знать, что близко, что цепляет.
– Чем живут.
– Это не единственное, что в их культурном фонде, фоне есть. Иногда даже кажется, что какая-то генетическая память срабатывает, особенно в нынешней ситуации.
– Абсолютно точно.
Я вам хочу сказать большое спасибо за то, что вы пришли, поделились своим творчеством с нами. Я сейчас по истечении нашей беседы думаю, что всё-таки и поэт, и педагог, и наставник, и филолог.
– Беда не приходит одна, называется.
– Всё в вас. Вы очень гармоничный человек, спасибо вам за это, спасибо, что продолжаете жечь наши сердца глаголом.