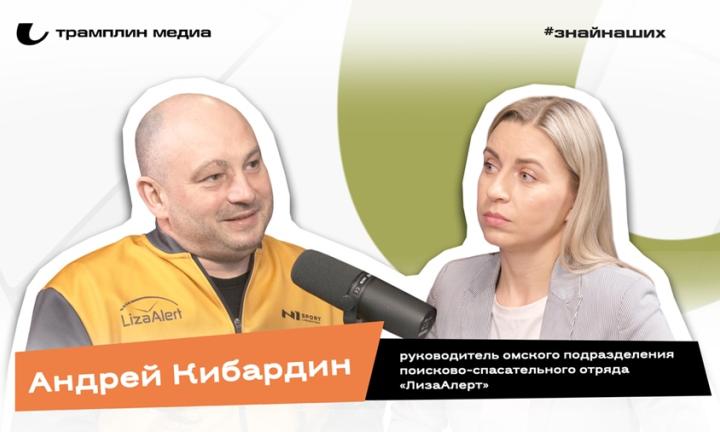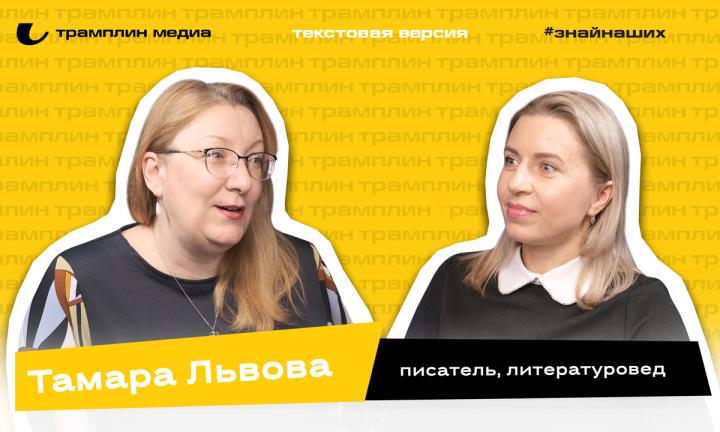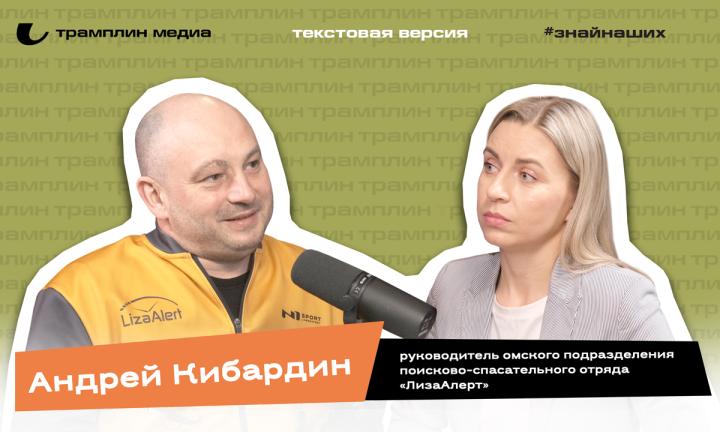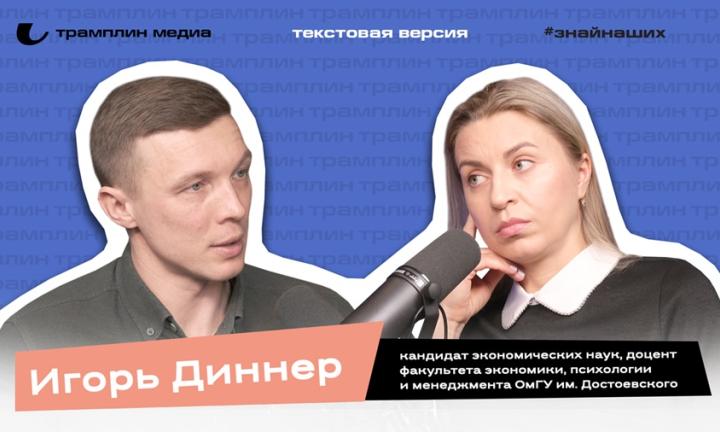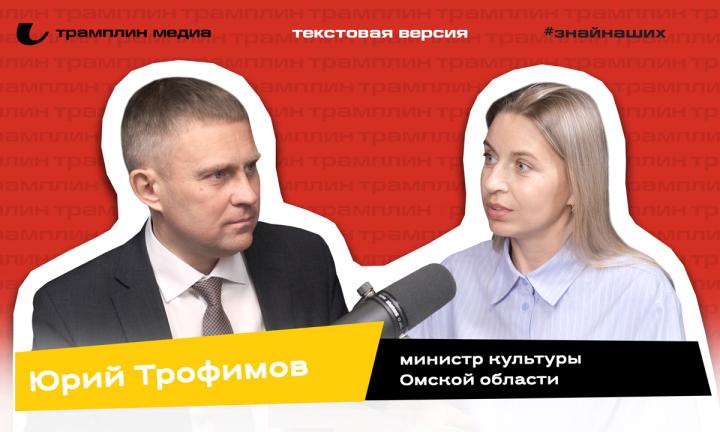Дата публикации: 19.04.2025
Для тех, кто любит читать, текстовая версия подкаста «Знай наших!» с эковолонтёром Татьяной Пальшиной.
— Татьяна, здравствуйте! Я бы сказала, Таня, как мы перед этим с тобой говорили, многостаночный волонтёр (улыбаются обе). Слушай, это удивительное качество в человеке, когда ты приходишь просто помочь. Я знаю, ты работала и с детьми с редкими заболеваниями, и животным бездомным помогала. И когда ты не просто помогаешь, а настолько углубляешься в эту тему, она становится потом твоей профессией. Ты и логопед, и ты окончила ветеринарный. Сегодня тема, которая тебя очень сильно волнует, это озеленение города. Ты много и очень часто пишешь об этом. Насколько я понимаю, сейчас ты пошла учиться на эколога.
— Да, я поступила в магистратуру на экологическую экспертизу.
— Почему так происходит? То есть ты не останавливаешься на уровне волонтёрства, а делаешь это всё действительно профессионально.
— Да, я считаю, этим надо заниматься профессионально. И чтобы мои рекомендации имели вес, у меня должна быть база. Я должна понимать, почему так делается, как, почему неправильно, что вредит и что можно исправить, чтобы стало лучше. Поэтому я углубляюсь в эти темы.
— То есть не быть дилетантом, так сказать, в проблеме?
— Да.
— Значит ли, что на этом сконцентрировано всё внимание, или там ещё ряд профессий тебя ждёт?
— Я не знаю, как дальше будет.
— То есть ты не планируешь, не загадываешь?
— Я вообще не планировала, не загадывала, что стану канис-терапевтом, я не планировала, не загадывала, что стану логопедом, и не загадывала, что буду логопедом именно в паллиативной сфере. Как-то жизнь так ведёт, она подводит и говорит: смотри, есть проблема — сможешь решить или нет? И я думаю: а почему бы не попробовать, вроде бы ресурс есть. Так же, когда поступала в ветеринарный институт, это была мечта моего детства, с детского сада мечтала поступить. Поступала в два — педагогический и ветеринарный, и когда поступление завершилось, я прошла в оба. Естественно, родственники в ладошки хлопали и ожидали, что я пойду в педагогический, но нет. Я пошла исполнять свою мечту детства.
— Ближе к животным?
— Да, к животным. Там мне очень нравилось учиться. Это было захватывающее обучение. Это не то что раньше. Я всё время сейчас сравниваю, всё равно я подписана на каналы, на свой факультет, и смотрю, там какой-то экшен происходит у студентов, и спрашиваю у педагогов, преподавателей: вообще дети-то учатся? Они говорят: если мы их не будем развлекать, все разбегутся.
— Вот так?
— Да. А в моё время была совершенно другая мотивация. Чтобы весной не принять участие в конференции?! Если на первом курсе преподаватели меня прямо загнали на конференцию, то на втором курсе и последующих я сама была уже готова, я ждала эту неделю конференций, и мне хотелось выступать с какими-то докладами. И преподаватели знали, готовились, предлагали какие-то темы. Окончила очень хорошо, с красным дипломом. Была профессиональная деятельность, но она была где-то около, но не в этой сфере. Я стала мамой, и, видимо, на эмоциях мне первый буклетик достался «Помогите ребёнку», в одном из торговых центров мне в руки вложили такой буклет.
— Мамы очень трогательно к этой теме относятся, конечно.
— И я увидела, что там собирают прямо колоссальную сумму денег, несколько миллионов рублей, на помощь ребёнку. Сходила тогда в Сбербанк. Это сейчас всё просто.
— А тогда всё ногами надо было.
— Да. Сходила в Сбер, перевела какие-то смешные рублики. На следующий день на сайте этой организации я обнаружила свою фамилию и эти деньги и прониклась определённым уровнем доверия. Потом пошла познакомилась, и так я стала волонтёром. Сказала, что денег много я жертвовать не могу, я в декрете, а волонтёром быть могу. И вот завязалась наша дружба.
— Ты прониклась?
— Да, прониклась не хочу сказать болью, но что-то около того: (болью) родителя. Насколько тяжело, в какой ужасной ситуации находятся родители, насколько обречённо и непросто, и как-то хочется помочь. Стараюсь более-менее адекватно оценивать себя и свои силы, как-то поспособствовать, внести хоть маленький вклад: лучше маленькое дело, чем большое сочувствие. Лучше чуть-чуть помочь, чем сильно посочувствовать. И решила помогать делами. Волонтёрствовала, потом пришла на работу в эту организацию и буквально следом ушла во второй декрет (улыбается). Я не планировала выходить из декрета, погрузилась в хобби, я хотела прясть (смеётся), завела себе пуховых кроликов, чесала их, пряла. Решила: вот оно, моё счастье.
— Легка на подъём? (смеются обе) Зажигаешься быстро?
— Да. Вспомнила, как меня в детстве учили прясть, видимо, знали, кого готовили.
— Ты знаешь, в декретном чего только не напробуешься!
— Да, а тут вспомнилось...
Позвонил руководитель, сказал, срочно нужен канис-терапевт, иппотерапевт.
— И как раз ты…
— Я созвонилась с дружеской организацией. Руководитель сказал: «Таня, давай сама, у меня все заняты, мы тебя научим». Так я уехала в Москву учиться на канис-терапевта. Тот руководитель собаку мою знала, знала, что у нас всё получится, верила в нас.
— Это Мартин.
— Да, это Мартин, мой рабочий пёс.
— Кто не знает, китайская хохлатая.
— Да. С ним было непросто, потому что канис-терапия рассчитана больше на активных собак, на тех собак, которые могут поработать пастью, которые двигаются, а Мартин достаточно инертен, у него есть определённые особенности. Сейчас я как специалист в дефектологии могу сказать, у него есть особенности обработки сенсорной информации.
— Всё профессионально!
— Есть моменты, которые ему очень не нравятся. Но при этом он готов работать, сделать всё, чтобы я была довольна. У нас с ним прямо такой тандем! В канис-терапии это очень важно, чтобы человек-проводник и собака были в тандеме.
— Сегодня ты уже канис-терапией не занимаешься?
— Эпизодически — если попросят. То есть мои взаимоотношения с детьми с особенностями развития продолжаются и вне моей работы: и в работе, и вне работы. Так как я работаю в больнице, там канис-терапией нельзя заниматься ввиду санитарных норм, но родители, бывает, приглашают, они устраивают для своих детей какие-то экшен. Есть у меня приятельницы, которые развлекают ребят 18+: их надо социализировать, им надо организовывать какую-то активность. И бывает, что мы ездим, бывает, ходим к малышам. Есть у меня подопечные — дети, к которым я в рамках паллиативной своей деятельности приезжаю на дом. То есть у меня есть работа в поликлинике в отделении восстановительного лечения, куда приходят дети сами. И есть работа — это моя следующая специальность, которой я обучилась, будучи в декрете, получая образование канис-терапевта, работая с очень тяжёлыми паллиативными детьми. Канис-терапия больше направлена на такое сознательное, осознанное действие — желание, стимуляция, побуждение к действию.
— Ну и моторика, наверное, сенсорика?
— Да. Но когда я начала работать с этими детьми, я поняла, что у них порой и сил нету этим заниматься. То есть базовые физиологические потребности у них не удовлетворены, такие банальные, как покушать, попить. А в чём проблема? Проблема в том, что они не могут качественно пережевать пищу, качественно её проглотить. А кто с этим может справиться? А с этим справляются логопеды, помогают с этим справляться.
— И ещё одна сфера для тебя открылась — логопедия.
— Да. Это долгий путь. Это не просто логопед, это должен быть медицинский логопед, но всё равно база педагогическая вначале, а на неё потом уже дополнительно (медицинская). Ну, сейчас пересматриваются стандарты профессии, и вводится другое обучение, буквально два вуза в стране сейчас на медицинских логопедов готовят. И опять же, медицинский логопед в детском паллиативе и медицинский логопед для реабилитации взрослых после инсульта — это разные направления. Есть свои особенности и там, и здесь. И переквалифицироваться из одного в другое будет непросто.
— Слушай, ну тебе оказалось и этого мало?
— Я бы с удовольствием лежала на диване (улыбается). Как многие омичи, как многие люди, я бы с удовольствием…
— Я удивляюсь твоему неравнодушию. Вот ты говоришь: три темы. Озеленение — а как ты с этим столкнулась? Тут понятно — и с животными ты работаешь, с детьми работаешь, наверное, все 24 часа себя реализуешь. А зелёная тема как появилась?
— Да, у меня есть три моих триггерящих темы. И опять же, они, как ты и говорила, пришли из детства. Я ходила в садик через две школы. В одной из школ был потрясающий учитель биологии, у него была восхитительная теплица, где были собраны какие-то растения, комнатные вообще всевозможные. И в этой теплице были ещё различные животные — домашние, не домашние, то ёжика кто-то принёс, черепашки, в общем, все подряд.
— Своя станция юного натуралиста.
— Да. И вот меня водили в садик через эту теплицу. Меня вообще можно было там оставить и не забирать до вечера, я могла там находиться сколько угодно. Вот это познавательное, вот эта любовь к природе у меня прямо с самого детства проявлялась. И поэтому есть эти три темы: бездомные животные, уменьшение их количества на улице, которую сейчас, благо, девочки, которые занимаются муниципальным приютом, ведут, и ведут её хорошо. Я наблюдаю за ними. Вообще за приютами в городе наблюдаю, но то, как сейчас развивается муниципальный приют, мне приятно, мне нравится. До того как там поменялся руководитель, было очень тревожно, и мне приходилось и туда фокусировать своё внимание. Я получила удостоверение общественного инспектора по обращению с домашними животными, ходила с инспекциями и говорила, как нельзя, ну, учитывая ещё моё первое образование, я имела право давать свои рекомендации и говорить своё мнение и (делать) заключение, почему так нельзя и как надо. Потом паллиативные дети сподвигли меня стать логопедом.
— И канис-терапевтом.
— И канис-терапевтом, да. А зелёное строительство? Вот вся эта история, которую я постоянно наблюдала в городе и наблюдаю, то, что происходит… Я знаю, как правильно, я с детства знаю, как правильно, как это должно быть, как клумбу разбить, как подстричь этот кустарник, как кустик сформировать, как этот саженец должен расти, как его посадить правильно. Я это с детства знаю. И когда я наблюдаю то, что происходит в городе, я начала копать: почему же так, почему не так, как должно быть, как это исправить? И я вижу, как деревья гибнут, я вижу, как саженцы не приживаются, как их скашивают мужчины с инструментом вместе с травой. У нас, получается, степной край, Омская область — это степная область. Меняется климат. Это я вижу постоянно на конференциях. Мы говорим в масштабах всего мира, да, не в масштабах страны. Мы говорим локально о нашем Омске. Климат меняется. Если мы посмотрим данные многолетних наблюдений на последние 40 лет, суммарная среднегодовая температура не уходила ниже нуля. То есть она уже стала выше нуля за 40 последних лет. Последний минус, где-то ноль целых и одна или две десятых градуса, суммарная среднегодовая была 40 лет назад.
— То есть эти данные нам говорят о том, что экология становится хуже? Это благодаря вот этим климатическим наблюдениям.
— Я не могу сказать, что она становится хуже, потому что это надо анализировать экологическую ситуацию.
— Много десятилетий, наверно, брать, да?
— Я могу сказать локально, что у нас, например, повышается среднегодовая температура. Идёт потепление. Ладно, глобальное. Мы говорим о городе. Как нам регулировать (потепление)? У нас и суховеи появились, пыльные бури, очень серьёзно увеличилась скорость ветра. Как с этим бороться? С этим придумали бороться порядка 70 лет назад в Омске, высадив деревья. Потом был провал, не подсаживали никакие новые деревья. Те деревья состарились, начинают как-то регулировать их состояние, и регулируют его неправильно. Есть ГОСТ на саженцы. Вот на те саженцы, которые в городе высаживаются, есть ГОСТ. И когда нам говорят: о, это же трёхметровые крупномеры! Нет! Просто если откроешь ГОСТ, там написано: стандартные параметры для саженца хвойных пород, лиственных. Стандартные параметры! Это не «вау, вам с барского плеча трёхметровый саженец дали». Это в рамках ГОСТа третья группа саженцев. Это не что-то сверхъестественное. Например, да, старовозрастные деревья. Никто не исключает, что их нужно обрезать. Они представляют опасность на самом деле, есть деревья повреждённые, есть с гнилью, да, есть те, у которых уже отслаивается кора. И нет людей в таком количестве, которые бы могли ходить и оценивать их состояние. Прямо хорошо, качественно это делать.
— То есть провести экспертизу дерева?
— Да. У нас как это всё задействовано? Владелец территории отправляет заявку в администрацию округа, из администрации округа приходит агроном, не дендролог. Агрономом у нас можно стать буквально за два месяца (улыбается).
— На каких-то курсах.
— На каких-то курсах, и ландшафтному дизайну сейчас так же учат. Долгим путём, коим я хожу, люди стараются не ходить. (Смеётся.) «Поступить в магистратуру? Ого, это же целых два с половиной года!» В конце ты должен магистерскую диссертацию написать. Поэтому это сложно, можно пройти какие-то курсы, получить вроде как диплом гособразца, а знания при этом нулевые. Не знаю, не исключено, что люди окончили наш аграрный университет. Когда я делала запрос в администрацию города о компетентности людей, которые принимают решения, мне сказали, что это закрытая информация, и не выдали её.
— Вот так.
— Да. У меня есть ответ за подписью Горчакова (Горчаков Михаил Анатольевич, заместитель директора департамента городского хозяйства города Омска. — Прим. ред.), что это относится к закрытой информации, подлежит охране личных данных.
— Секретно?
— Секретно. Нельзя нам про это знать.
— Даже не узнаем, кто же спилил дерево, которое ещё вчера стояло.
— Мы можем понимать, на чьей территории это делалось, мы понимаем, кто подал заявку, в 99 процентах вероятности. Мы понимаем, что пришёл агроном.
Удивительно, что происходит в городе. У нас собираются так называемые зелёные комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зелёных насаждений ежемесячно: все заявки...
— ...заявки на снос, на обрезку деревьев...
— ...и на восстановление. Так вот, не было ещё ни одной заявки (я уже хожу два года на эти комиссии), чтобы пришёл человек и сказал: я хочу высадить, определите мне, пожалуйста, площадь, где мне высадить 100 саженцев?! Нет, у нас есть снос, обрезка и компенсация за них. Компенсация может быть в денежном эквиваленте либо в натуральном.
— Компенсация кому выплачивается?
— В администрацию города выплачивается компенсация за снос, если это денежный эквивалент.
— Может быть, идёт зарабатывание денег?
— (Вздыхает.) У нас это очень смешная сумма — порядка 3000 рублей за дерево.
— Так или иначе, с миру по нитке…
— А сколько денег надо, чтобы вырастить саженец?!
— Никто не будет выращивать.
— Вот! И в итоге мы приходим к тому, что город-то у нас становится лысым. И то, что люди говорят: а, ну это же омолаживающая обрезка. Или комиссия: приходит много заявок. Сидит комиссия в администрации города. Каждая заявка высвечивается на экране. Агрономы, которые смотрели эти деревья, заявку, делают фотографии и прилагают их. Но забавно, что фотографии деревьев делаются и в период, когда деревья не вегетируют. То есть листья облетели…
— То есть зимой можно сходить, осенью.
— Ну, «аварийное дерево, ветки сухостойные, суховершинность» у него. А ты не можешь (видеть), это необъективная оценка, потому что дерево не вегетирует.
— Какое вообще сложилось впечатление, что творится?
— Ну вот… (смеётся)
— Страшно говорить?
— Страшно говорить, потому что… Смотри, а потом на этой комиссии: дерево сфотографировали тогда, когда нельзя, то, что дерево суховершинное, по фотографии непонятно, потому что она сделана в неправильное время. Ладно, повреждение ствола — это ещё хоть как-то можно увидеть и оценить даже зимой. Но ты не знаешь, как оно (повреждение) сказалось и сказалось ли. Дальше. Заявка у нас строится таким образом, в ней написано: снос стольки-то деревьев и обрезка стольки-то деревьев. И расписаны виды. Причём никто из членов комиссии, за редким исключением, очень мало, и это было в самом начале, потом уже махнули рукой, голосуют. Дело в том, что не указываются виды обрезки. А обрезка у нас бывает трёх видов. И за какой вид обрезки они голосуют? А у нас, посмотришь по городу, делается единственная обрезка: на пень.
— А ещё какое конкретно дерево, чтоб не перепутать.
— Да. Потом люди с бензопилами приходят и делают то, что они умеют делать. Вжих — всё! Но даже когда они делают обрезку, для этого есть методические рекомендации. Мне, опять же за подписью Горчакова, есть ответ (это администрация города, департамент городского хозяйства), что в своей деятельности они руководствуются как раз вот этими методическими рекомендациями Академии муниципального хозяйства имени Памфилова. И там прямо чётко расписано, какие виды обрезки, какие деревья какую обрезку переносят. Например, берёзу нельзя обрезать на пень, она не переносит омолаживающей обрезки.
— Слушай, ну это в теории же?
— Почему в теории?
— А на практике они это делают?
— Конечно. У нас весь город так стригут. Обрезают.
— В смысле методические рекомендации они соблюдают?
— Нет конечно!
— Ну вот, я тебе и говорю, что это чисто теория.
— Мне написал Горчаков, что мы руководствуемся вот этим. Но никто это не соблюдает. Я удивлена просто до бесконечности, как можно настолько... Эти методические рекомендации же не просто так даны.
— Да они просто так, параллельно. Стоят и стоят.
— Целый институт трудился, люди писали диссертации…
— То есть получается, главная проблема в том, что у нас в администрации нет такого профессионала, который бы знал все нюансы и ещё нёс бы за это ответственность. Неравнодушного человека.
— Да, они распределили ответственность по комиссии. А кто виноват? А никто не виноват. Мы тут коллегиально принимали решение. А ты просто на этапе голосования находишь: вот это недочёт, вот это. За какую обрезку они голосуют? Никто из них не знает.
— А страдают люди.
— Мы страдаем. Вот был недавно проведён рейтинг качества городской среды, и Омск там занял не последнее место или, по-моему, поднялся на одну строчку, что ли, что-то в этом духе. А ведь качество городской среды не только дорожками мерится, причём с дорожками тоже проблемы. У меня есть приятельница инвалид-колясочник, и она постоянно инспектирует эти дорожки. Я вижу проблему ещё в чём — в том, что тот человек, который в администрации города, должен в итоге принимать работу и ставить свою окончательную подпись: да, там сделали какое-то благоустройство, и он подпись ставит. Он должен прийти на место и посмотреть. Есть ГОСТы на всё, есть ГОСТ на высоту этого бордюрчика. Это не просто так сделано, это сделано потому, что человек на инвалидном кресле может быть самостоятельным. Людям, наверное, это как-то тяжело воспринимать. Нам, тем, кто в паллиативе работает, это прекрасно понятно: есть такое понятие, как качество жизни. И вообще, самостоятельность у человека: он не должен постоянно требовать, просить, нуждаться в сопровождении. Он должен самостоятельно смочь заехать в автобус, спуститься по пешеходному переходу и заехать на него, а это всего лишь два сантиметра высота, иначе электрическая коляска не может заехать. А не может заехать — вроде как бы это чисто технически: ой, она там пищит. На самом деле у неё там шестерёнки трутся, ремонт очень дорогой…
— То есть это цепочка такая из многих и многих звеньев?
— Да. И вот когда приезжаешь в другой город, понимаешь, что там администрация города, человек, ответственный за приёмку, не просто сидит у себя в кабинете и ставит подпись. Он выходит на место, инспектирует самостоятельно, а для этого надо знать нормативные документы, которые регулируют тот или иной показатель. Когда всё это происходит, то город выглядит по-другому.
— Ох, взялась ты за какую тему… Как ты вообще думаешь сдвинуть этот камень?
— Ну, я не одна, нас много. Есть ребята, есть мужчины, женщины, друзья, соратники, единомышленники, которые находятся, и мы с ними связываемся, они пишут. Поначалу да, было тяжело. Было трудно. Я думала: боже мой, какой же огромный пласт. Не хватало и (времени). Учёба, работа… Вот момент, как ты сказала, волонтёрство. Это же, естественно, не оплачивается, всё на добровольных началах. И я не могу сюда сместить полностью фокус своего внимания, потому что есть ещё обязательства: например, паллиативные дети…
— Это твоё основное.
— Это моё основное, те, которые меня вдохновили стать тем, кем я становлюсь. И хочется, чтобы всё это было хорошо. Я прямо зашивалась. Надо было писать все эти бесконечные письма, запросы. Ну, сейчас такая наша система общения с народом, видимо…
— Да, именно так.
— То есть ты должен отправить запрос. Тебе через 30 дней ответят отпиской. И в основном на этом всё заканчивается. Люди в основном останавливаются, они перестают писать запросы: а! опять очередную отписку получил, напишу ВКонтакте или ещё в какой-нибудь другой соцсети…
— Вообще реально ли изменить ситуацию в городе: кинуть клич, собрать ещё больше людей, ещё больше людей отправить учиться на экологов?.. Что нужно сделать?
— Реально! Почему я поехала в Ижевск, почему стала учиться в Удмуртии? Я туда ездила регулярно, вообще по России поездила. Я вижу, что город там качественно отличается от нашего. Я знаю, что там городские управленцы проходили обучение по экологии. Это я точно знаю. И когда нам говорят: ой, ребята, мы тут построим полигон, один на полтора (сколько у нас там жителей) миллиона, миллион триста, да, по официальным данным. А в Ижевске они построили на миллион пятьсот — пять (!) полигонов. Им не хватает, они за два-три года заполнятся. Им не хватает! Я понимаю, что у нас в Омске просто так, для отвода глаз, это всё говорится.
Есть приоритеты. Если у нас в регионе начнут правильно расставлять приоритеты, ну, ёлки, не метро достраивать надо — мы в мусоре прямо погрязли до невозможности! У нас повышается температура, в городе дышать невозможно, растёт заболеваемость. Да, у нас есть отчёт, по которому ещё возросла заболеваемость онкологией. Растёт и растёт. А мы ухудшаем ситуацию, благоприятную окружающую среду. (Важно) не только замостить всё плиткой, сделать доступной всю среду, но и сделать её комфортной для проживания человека. Человек — это биологическое существо, у него есть комфортные границы, рамки окружающей среды, в которых ему комфортно: влажность, температура, скорость ветра и прочее. Чуть сильнее ветер — его продувает, чуть влажнее — он начинает заболевать.
— Таня, скажи, какие деревья удалось уже отстоять: что это уже ваша заслуга и ваше дело не напрасное.
— Вот с осени у нас ведётся борьба за деревья в посёлке Дачный. Это сосны. Совершенно случайно там Михаил Баньковский…
— Целая группа там, по-моему, людей.
— Ну как случайно. Он там «ходил»: они скалолазы, и им где-то надо оттачивать своё мастерство, и они нашли эти старые деревья и на них карабкались. И вот этой осенью, он говорит, обнаружил метки на снос этих деревьев. Он считает, надо что-то делать, это очень старинные деревья, надо как-то их спасть. И мы простроили план, что же нам делать, и из 11 деревьев удалось спасти чуть больше половины, но, к сожалению, не все. Причём он делился впечатлением после разговора с лесничим (или с лесником, я уже не помню, с кем он общался): там человек его попросту не понимал. Лесничий говорит: какая там деловая древесина, они старые, там столько-то кубометров в них древесины, и то она не деловая, сносить их надо. А то, что они являются таким памятником природы, потому что несут культурную ценность, этот человек не готов воспринимать...
— Они действительно были опасны?
— Не были. Они в лесу растут.
— То есть даже если упадёт, никого не заденет.
— Конечно, лесничие, лесники любят рассказывать про то, что вот каждый год нарастает в лесу столько-то кубометров леса, не пилить лес нельзя, иначе ветер роняет эти деревья, дерево падает не в нужном направлении, влечёт за собой повреждения соседних деревьев и поросль молодую повреждает и прочее. Но есть же исключения из правил. У нас была ива белая, возле Омскводоканала росла. И это было единственное дерево, которое у нас в городе было памятником природы, его надо было сохранить. Но возле него сделали благоустройство, что сильно усугубило состояние ивы, и пришлось в итоге её снести. И вот сейчас у нас вот эти деревья... Причём когда общались с Министерством природных ресурсов Омской области, они не хотели этого делать, но, собирая подписи людей, поднимая шумиху вокруг ситуации, Михаилу удалось привлечь внимание, удалось заявить в компетентные организации, которые занимаются этим. Очень хотелось бы, чтобы на территории посёлка Дачный, где эти деревья произрастают, сделали бы ООПТ. По большому счёту, это не требует затрат финансовых.
— ООПТ — это что?
— Особо охраняемая природная территория. Просто чтобы ограничить антропогенную нагрузку. Или сделать вообще это достопримечательностью, централизованно водить туда людей, не абы как, чтобы они пришли и костры развели рядышком, а водить экскурсии. Можно всем этим заниматься, можно развивать. Но главное — сместить сюда фокус.
— Как воспитать таких же активных, неравнодушных людей?
— Мне кажется, своим примером, по-другому не получится.
— Как ты думаешь, можно ли возродить город-сад, ну хотя бы приблизиться?
— Конечно, очень хотелось бы, но это будет стоить огромных усилий. Необходимо изменить фокус внимания руководства города.
— То есть все проблемы там кроются, ноги оттуда растут?
— Да. Города и региона. Должны быть расставлены верно приоритеты и фокус внимания.
— Помоги им.
— Стараюсь, Марина!
— Спасибо большое, что ты пришла, поделилась.
— Спасибо, что пригласили.
Полную версию видеоподкаста можно посмотреть здесь
Читайте также