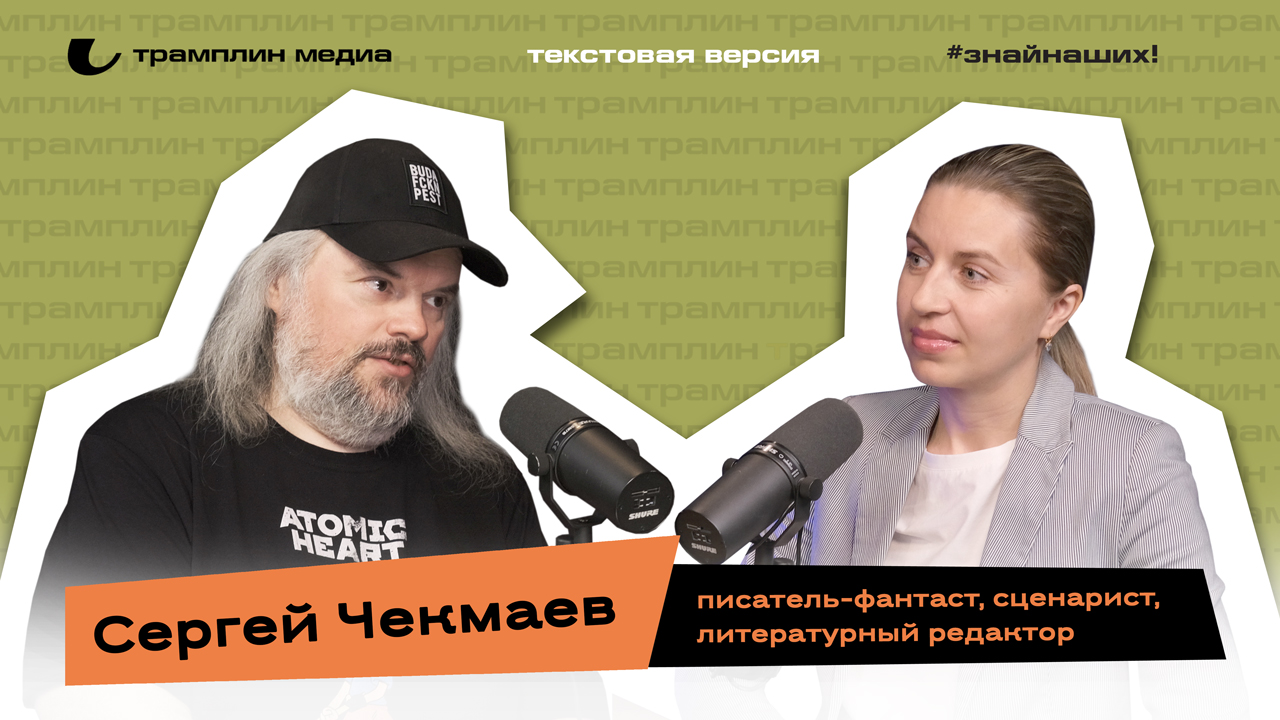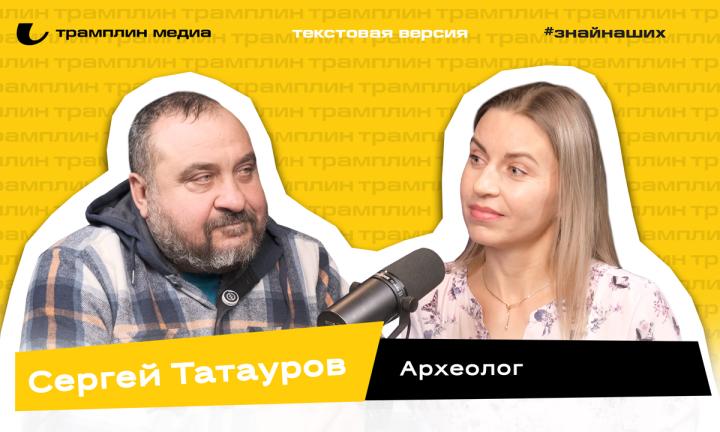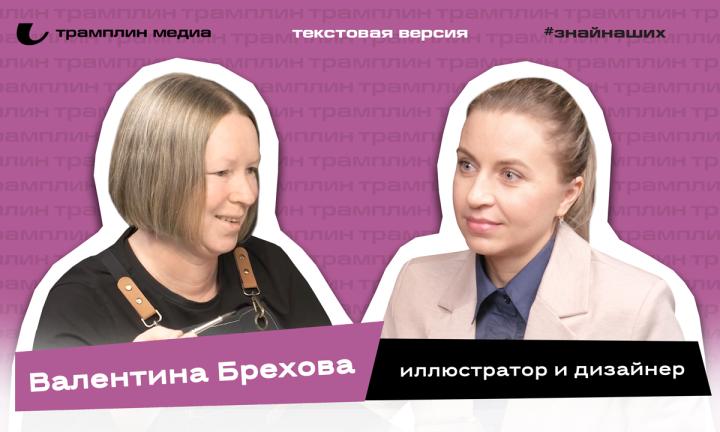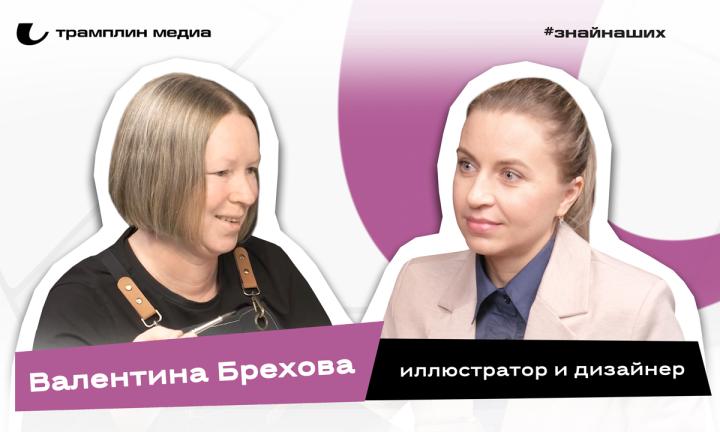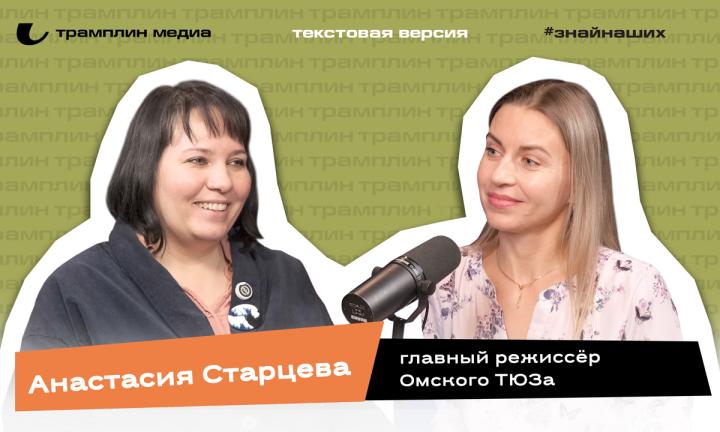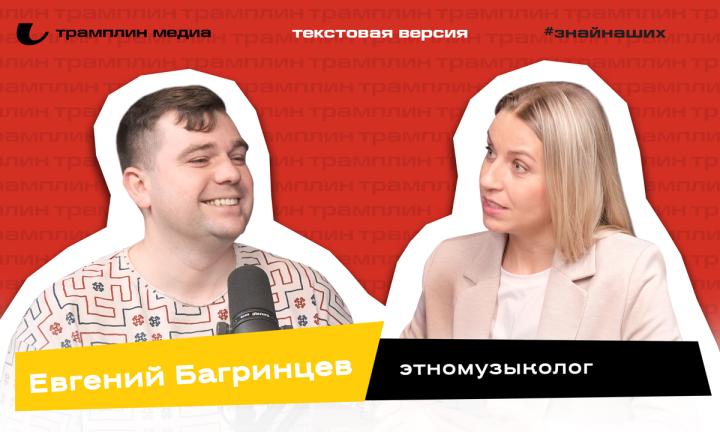Дата публикации: 3.05.2025
Для тех, кто любит читать, текстовая версия подкаста «Знай наших!» с российским писателем-фантастом, сценаристом и литературным редактором, лауреатом многочисленных литературных премий, членом правления Союза литераторов России и членом Союза журналистов России Сергеем Чекмаевым.
— Сергей, здравствуйте! В Омске недавно прошёл Сибирский фестиваль фантастики и фэнтези «Планета Омск», где вы стали одним из экспертов фестиваля, что неудивительно: вы неоднократно были признаны лучшим составителем сборников фантастики и вообще в фантастике с 2002 года. Это уже больше 20 лет, уже больше 20 книг написано. С вашей точки зрения, фестиваль удался?
— Да, с учётом того, что это первый фестиваль, то есть не было предыдущего опыта, с учётом того, что проводили его фактически пять человек — это наше Омское отделение Союза литераторов, которые инициировали все работы по подготовке фестиваля, очень много на себе вытащили. Тамара Львова, руководитель нашего отделения, чуть ли не в одиночку поначалу всё это раскручивала, естественно, с нашей поддержкой, но из Москвы нам это сложно, разве что какие-то бумажки пересылать и официальный статус придать. Всё, конечно, они сделали на очень хорошем уровне, и надо отметить наших коллег из Ассоциации книжных фестивалей «Читающая Россия» — Михаила Фаустова, который включился в процесс, в том числе помог привезти на фестиваль известных писателей-фантастов. В общем, блин комом не вышел. Да, как всегда, бывают мелкие огрехи, что-то где-то не успели, что-то где-то не соединилось, но это всё настолько несущественно, что фестиваль прошёл на очень хорошем уровне.
— Что показали эти два дня — что в Омске всё-таки больше профессиональных фантастов или любителей?
— Очень тяжело говорить, что существуют какие-то профессиональные фантасты. Потому что, во-первых, если мы просто взглянем на литературу в целом, то почти каждый известный писатель, причём как наш современник, так и классик, так или иначе пробовал себя в фантастике. Что такое «Собачье сердце»? Что такое «Вечера на хуторе близ Диканьки»? Мы чуть ли не до древнегреческих эпосов можем проследить произведения с элементами фантастической литературы. Поэтому говорить, что это какие-то профессиональные фантасты отдельной взятой касты, нельзя. Мне вообще не нравится, когда называют: писатель-фантаст. Никто же не говорит: писатель-детективщик или писатель романтических произведений. Просто писатель. А нас почему-то принято выделять с этой «приставкой».
— А почему тогда выделяют отдельную категорию?
— У Кира Булычёва в воспоминаниях была такая шуточная история: такое ощущение, что фантасты стесняются признаваться в том, что они тоже писатели. Поэтому, чтобы их оценивать как-то не с точки зрения литературного качества, сделали эту «приставку». Выглядит это так, как будто артист признаётся не в том, что он артист, а так, чечёточник… Это прямая цитата. Что-то несерьёзное…
Многие относятся к фантастике не сильно серьёзно: что-то такое для детей, развлекательное. Поэтому и писатели, когда себе взяли такую «приставку», тоже как будто стесняются официально о себе говорить. Говорить о том, что действительно существуют профессиональные фантасты, довольно сложно. Даже самые известные на сегодня наши фантасты пробовали себя в различных отражениях литературы. Тут нужно между строк заметить, что в литературоведении очень много сломано копий. И на сегодняшний момент все пришли к тому, что фантастика — это не жанр, поэтому когда человек говорит, что он пишет в жанре фантастики, он ошибается. Фантастика — это метод. И этот метод можно применить в любом жанре.
Авторов, которые используют этот метод, и в Омске, и в Сибири очень много. Вообще, в Сибири проходит масса литературных фестивалей, фантастических в том числе: в Новосибирске, в Кемерове. И очень много любителей фантастики. Известные авторы сюда приехали именно на фестиваль, выступить, не прийти и автографы собрать, а послушать: Вадим Панов, Сальников были. Сегодня будет онлайн-встреча с Дмитрием Емцом. Очень много приходило людей именно послушать, поговорить, поспорить, задать вопросы. Не знаю, можно ли называть их профессиональными (по аналогии) читателями фантастики, но то, что фантастику в городе любят, это, в общем-то, несомненно.
— Вот так, мы пришли к выводу, что фантастика — это не жанр.
— Надо сделать небольшое отступление. В кино есть жанр фантастики. В комиксах, например, в компьютерных играх: можно сказать, что игра сделана в жанре фантастики. А в литературе фантастика — это метод.
— Очень много есть, поправьте меня, как назвать, — поджанров, подвидов фантастики. Это же и патриотическая фантастика, и православная фантастика, научная фантастика.
— Это как раз и есть деление на поджанры. Это действительно поджанры, потому что они используют свою сложившуюся терминологию, свои сложившиеся вполне понятные миры, свои сложившиеся вполне понятные проблемы. Например, социальная фантастика разбирает то, как будет выглядеть наше общество, если мы примем какие-то подсказки или выберем какую-то социологическую, политологическую теорию в качестве основы для развития планеты Земля. То есть любая антиутопия, где рассказывается про какое-то ужасное тоталитарное общество, — это социальная фантастика. Любой, например, постапокалипсис, где нам рассказывают про погибшую Землю, на которой формируется феодальное общество, — тоже социальная фантастика. Она рассказывает нам, к чему мы можем прийти, если цивилизационные рамки с нас спадут и мы все вернёмся вот в такое полудикое состояние раннего феодализма, а то и рабовладения.
— Сегодня какого вида поджанр преобладает? По стране, не только по Омску.
— Совсем недавно у нас в Тюмени был фестиваль науки и фантастики, там мне тоже задали этот вопрос. И мы пришли к тому, что сейчас не то чтобы преобладает, но, как любят говорить, одним из трендов стал позитивный апокалипсис. Вполне понятно, что мы живём в достаточно неустойчивое в политическом смысле время. Идёт переустройство мира, причём это происходит прямо на наших глазах. И очень странно наблюдать, что в государствах, которые считаются центрами силы, — в Китае, в США, в России, в Европе, как бы мы к ней ни относились, люди чувствуют своё участие в этом переустройстве мира, держат руку на пульсе, ну или хотя бы голосуют за тех, кто держит руку на пульсе, и вроде как своё отношение к этому ощущают. А вот в странах, далёких от центра принятия решений, — в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии, люди чувствуют: ребята, ну вы уже решите наконец-то, чтоб всё было нормально, уже как-то разберитесь там между собой. Запрос идёт особенно из этих стран, у нас в России тоже он есть, на то, что давайте пофантазируем, какие пертурбации будут в нашем мире из-за глобальный изменений, но чтоб в конце всё кончилось хорошо.
— То есть установка такая: хороший конец.
— Да, позитивный апокалипсис. Чтобы мы сначала пришли к выводу, что у нас тут всё будет плохо, потому что все налаженные схемы, пресловутое Ялтинское мироустройство рухнуло, но в конце мы все выживем, ура! Установка есть.
— Как в доброй сказке.
— Не то чтобы в доброй. Знаете, очень был интересный пример в 2020 году, когда все сидели по домам во время эпидемии коронавируса и боялись чихнуть друг на друга. Мы с коллегами-фантастами, Кирилл Бенедиктов был одним из ведущих этого проекта, в том числе один из авторов, который приезжал сюда на «Планету Омск», Вадим Панов туда писал, я туда писал. Проект называется «Постэпидемия». Это был сборник рассказов о том, что ковид кончится и всё будет хорошо, то есть победим болезнь. Это сейчас мы к этому так относимся: уже пять лет прошло, мы начали забывать, а ведь тогда страхи в обществе были очень сильными. И вот это был сборник того самого позитивного апокалипсиса: да, ковид прошёл, мы его пережили, всё закончилось хорошо.
в обществе Я вот двадцать лет назад, будучи подростком, относилась (к этому) так: вот это чьи-то придумки, кто-то от нечего делать сидит и сочиняет будущее. На самом деле (сейчас уже прошло лет двадцать, может быть, чуть меньше, чуть больше) я понимаю, что мы в этом во всём живём. Кто такой писатель-фантаст, давайте всё-таки будем называть его так, — это человек с особым складом ума, с особой интуицией? Как происходит написание? Сидит человек и предполагает, но как-то так метко предполагает?
— Мы в своё время с коллегами много дискутировали, и придумалась такая концепция, что фантаст — это своего рода ведущий игры, вот как у настольных игр или у игр ролевого действия бывают ведущие. Самый мощный инструмент фантастики, которого нет ни в одном другом отражении литературы, — это умение строить модели. Фантастика берёт какое-то изменение, может быть, какое-то открытие, может быть, социальное или политологическое изменение в устройстве мира, и начинает строить модель мира: как это будет выглядеть через двадцать, через тридцать, пятьдесят, двести лет. Насколько это может быть интересно нам как человечеству в целом? В своё время у меня даже был такой слоган, я его вбросил: фантастика — это тревожная сигнализация планеты Земля. Вот мы придумали какую-то ерунду с точки зрения человечества...
— Опять же, условно говоря.
— ...но поклонники этой ерунды преподносят нам её как величайшее достижение. И задача фантастики взять мысль и построить вокруг неё мир, довести до предела, докрутить вот эти ручки, может быть, даже с каким-то гротеском, показать мир, как он будет выглядеть тридцать, пятьдесят лет спустя, и спросить читателя: а надо вам вот это? У нас, например, в 2012 году вышел сборник «Беспощадная толерантность». Это сборник рассказов о том, что будет с институтом семьи, с человеческой цивилизацией в целом, если ВСЕ на сегодняшний момент пропагандируемые западным миром ценности нетрадиционных сексуальных отклонений будут приняты. Вот что случится через пятьдесят лет? Естественно, мы за эту книгу были названы фашистами...
— По-моему, «Семьи.net»?
— «Семьи.net» — это второй том, это продолжение. Самый первый, подвергнутый критике со стороны ЛГБТ*-сообщества (*Запрещенная в России экстремистская организация), был сборник «Беспощадная толерантность». Идея-то была именно в этом: мы никого не призывали судить, мы никого не призывали наказывать, расстреливать, мы просто показали, как будет выглядеть мир, если все эти предложения поголовно будут приняты.
— Просто поразмышляли?
— Поразмышляли, показали читателю, в этом тоже сила фантастики: если включить на полную опыт конструирования миров, то мир получается непротиворечивый. А непротиворечивый, прописанный широкими мазками мир вызывает доверие. Доверие — это важнейший инструмент фантастики, который вбрасывает какую-то мысль в человека и предлагает ему подумать: а хотите ли вы такой мир? Если мы позитивную картинку построим, получается утопия. Соответственно, если мы построим негативную картинку, получается антиутопия, дистопия, как её ни назови. Это, наверное, одна из основополагающих идей, важнейший принцип фантастики — показывать варианты. Фантастика не предсказывает будущее — она даёт варианты. Многие говорят: а я в детстве читал книгу такого-то автора, а сейчас мы (речь о каких-то технических устройствах) ими пользуемся. Одновременно с этим автором было сто тысяч книг других авторов, изобретения и разработки которых до сих пор не появились.
— То есть это одна из версий, которая просто выстрелила?
— Одна из версий будущего. В этом и есть основная задача фантастики: предлагать на суд читателя и, как бы это пафосно ни звучало, общества в целом какие-то варианты будущего. Всё!
— Ваша лекция на фестивале звучала как «Книги будущего. Как издают фантастику в 2050 году». Это тоже наверняка одна из версий. Как будет жить фантастика в 2050 году?
— Мы вообще очень много на эту тему говорим, у нас есть даже выездная лекция «Кузница миров» о том, как создают красивые востребованные фантастические миры, причём не только в литературе, но и в кино, в компьютерных играх. И вот концепция тех книг, которые Союз литераторов делает вместе с нашим подразделением — издательством «Пульсар» (наше подразделение полиграфического дизайна из Питера): концепция книг будущего. Мы делаем то, что сейчас позиционируется как премиумные, коллекционные артбуки, то есть литературно-художественные издания, книги, которые не только читают, которые хочется рассматривать, которые хочется изучать, которые не прочитал и поставил на полку, а хочется постоянно смотреть, и которые в том числе становятся предметом коллекционирования.
— То есть это больше, чем книга?
— Это больше, чем книга, и это вариант. Естественно, мы не претендуем на то, что это единственное решение. Есть много других вариантов. Но это вариант спасения книги как артефакта. Несомненно сейчас для всех (мы можем долго рвать на себе тельняшки), что бумажная книга проигрывает время обычного человека. То есть у него есть время досуга — он мог бы посвятить это время чтению, а он пойдёт сериалы смотреть, в соцсетях посидит, в гаджетах позалипает. Это не плохо и не хорошо, это данность. И с этой данностью не нужно бороться. У нас очень много рассуждений о том, что вот онлайн-игры отвлекают людей от чтения, нужно онлайн-игры запретить. А почему вы подходите только с такой позиции? Почему не использовать онлайн-игры как продвижение книг? Я вот не зря в этой футболке (на герое футболка с рисунком и надписью Atomic heart. — Прим. ред). Почему не использовать онлайн-игры как возрождение интереса к чтению? Когда вот человеку понравилась эта игра, он никогда ни одной книги не прочитал и сидит пялится в свой телефон, ему ничего больше не надо, но вдруг в этой игре, в которой он залипает уже несколько месяцев, просто живёт в этом мире, появляется сообщение, что вышла книга для поклонников этого мира, где рассказана предыстория событий или, например, где повествуется о жизни одного из главных героев. Даже если десять процентов игроков прочитают эту книгу, мы уже с вами миссию выполнили. У нас с моим коллегой Денисом Поздняковым даже была такая статья «Как вернуть к чтению поколение Z». Тоже вот один из вариантов.
— Получается, литература — это больше, чем книга, как вот мы сейчас сказали.
— Да.
— Это ещё и игра, и сериал и т. д.
— Есть такое понятие, как кросс-медийный проект. Это когда некая франшиза. Ну чтобы понятно было нашим зрителям, например, «Звёздные войны». Выходит не только в виде одного продукта, вот вышло кино и всё. Естественно, выходит новеллизация в книге, отражение в играх, комиксы, настольные игры. Коллекционеры собирают реплики лазерных мечей, модельки кораблей. Вот это всё и есть погружение в выдуманный мир. И это один из вариантов, который может сохранить чтение даже у того поколения, которое не любит читать, и сохранить книгу как артефакт. Именно бумажную, с запахом типографской краски, с шелестом страниц — то, о чём пишут страдающие и ностальгирующие люди.
— Фантастика может формировать общественное мнение?
— Ой, нам бы хотелось! Вот я очень давно занимаюсь таким понятием, как литературные проекты. У нас очень часто бывает, когда мы берём какую-то спорную социальную тему. Ну, к примеру, «Беспощадную толерантность» я упоминал. Ещё у меня была книга, называется она «Калибр имеет значение?». Книга-дискуссия о том, стоит ли в России разрешить хранение и свободное ношение огнестрельного оружия. В книге было два раздела: за и против. Соответственно это была книга столкновения мнений. Опять же по той схеме, что я вам рассказывал: как это будет выглядеть через двадцать-тридцать лет. То ли мы все перестреляем друг друга и останутся безлюдными улицы городов, то ли это будет цивилизация страшно вежливых людей, которые даже боятся косо друг на друга взглянуть. То есть много разных вариантов, может, я даже сейчас немножко издеваюсь над идеей. Авторы нам предлагали много вариантов. Мы не давали идеальных ответов: вот будет так и всё. Мы просто предложили читателю загрузить всё это себе в голову и подумать, какой из вариантов ему больше нравится. Наверное, это тоже одна из задач фантастики, раз уж мы умеем моделировать миры.
Сейчас государство довольно серьёзно обратило внимание на фантастику как на инструмент создания будущего. Во-первых, в ноябре в Москве прошёл гигантский симпозиум «Создавая будущее». При некоторых недостатках это было очень важно, потому что он позволил объединить фантастов с учёными, с чиновниками, с различными исследователями будущего, с футурологами. На площадках собрались участники и дискутировали друг с другом о различных путях и развития России, и развития технологий и т. д. Вот отсюда, из Омска, я лечу на Сахалин, у нас там проходит «Акселератор фантастики». Агентство стратегических инициатив вместе с нашим Союзом литераторов проводит большой масштабный конкурс «Россия 2050», где обычным авторам, не известным, популярным фантастам, а обычным авторам, предложили написать рассказ, как будет выглядеть Россия в 2050 году. Что у нас изменится, что у нас будет плохо, что у нас будет хорошо. И вот по результатам этого «Акселератора» будут выпущены книги, предложены сценарии сериалам, крупным площадкам. Именно попытка моделировать будущее сейчас активно предпринимается, в том числе с поддержкой государства. И опять же, мы не говорим, что нужно взять десяток суперименитых фантастов и пусть они придумывают будущее для России. Конечно нет, так не бывает никогда. Сама прослойка литературы, которая умеет строить модели, даст нам большой сегмент, очень много вариантов будущего, из которых можно будет выбирать.
— Я вот к чему задала этот вопрос про формирование общественного мнения. Не секрет, мы живём в этом: когда западники, так сказать… просто какой-то поток — и кино, и игры, и всё-всё-всё хлынуло на нас. А нам есть ли в этот момент чем ответить?
— Есть такое понятие — инструмент мягкой силы, который подразумевает именно воздействие с помощью культурных объектов. Обычно его используют в отношении Голливуда в голливудских же фильмах. Знаете, самый яркий пример, как фантастика не просто сформировала, а взорвала общественное мнение, — это, естественно, антивоенное движение 70-х годов. Когда появились первые выкладки учёных о ядерной зиме, в общем-то никто им особо не поверил, не было такой страшилки: учёные насчитали, что вот будет атомная война, все погибнут, а если не погибнут, то упадёт температура на Земле. Ну посчитали и посчитали. А потом пришли писатели-фантасты, режиссёры-фантасты, написали кучу книг и наснимали кучу фильмов, которые привели читателей и зрителей просто в ужас. Потому что визуализация и изображение вот этого образа ядерной зимы в скупых сухих цифрах не давало такого ощущения, как фильмы «На последнем берегу», «Письма мёртвого человека», книги типа «Мальвиль» — то есть то, что сформировало ощущение людей, что мир катится к пропасти.
И по обеим сторонам океана огромная, титаническая волна антивоенного движения стала требовать разрядки, стала требовать сокращения ядерных арсеналов. В общем, это дало серьёзный позитивный эффект. Мы сегодня уже говорили об этом — про рынки Латинской Америки, то, что мы сейчас называем «глобальным югом», — полумесяц Южного полушария, где людей проживает сильно больше, чем во всём остальном мире, но они чувствуют себя исключёнными из процесса.
У нас есть, например, проект, коллекционный артбук по вселенной «Метрономикон» — это мир сохранившегося до 2025 года Советского Союза, но в этом мире произошли глобальные изменения, появилось вторжение второй физики, которую мы назвали инфильтрацией. Это, в принципе, задумано как игра ума. Было некоторое количество иллюстраций известного питерского художника Алексея Андреева, и на этих иллюстрациях была создана новая вселенная. И когда мы, писатели Союза литераторов, издательство «Пульсар», сам Алексей Андреев, придумали этот проект, мы не думали, даже не предполагали, что он может приобрести такие масштабы, как у нас сейчас получилось. Совершенно неожиданно, к нашему даже ужасу, на одном из известных видеохостингов количество просмотров составило 5,3 миллиона! Бук-трейлер — это полутораминутный ролик о том, что есть такая книга. И мы видим гигантское количество комментариев о том, что «я хочу жить в этом мире», «почему нет фильма»... (Но фильм уже есть, мы закончили снимать его. Сейчас идёт постпродакшен-монтаж.)
У нас в структуре Ассоциации творческих деятелей есть такое Евразийское книжное агентство, оно возит книги отечественных авторов на различные международные книжные ярмарки. И вот наши книги поездили на семь (на текущий момент) книжных международных ярмарок: в Китае, в Индии, в арабских странах, в Гаване на Кубе, в Бразилии. И очень странная была реакция — подходили читатели и спрашивали, что за мир, листали книгу; там русский язык, они ничего не понимали, но смотрели на иллюстрации. А потом подходили издатели и говорили: а что это такое? Там были рекламные листы на английском языке. Они говорили: «Вот! Это то, что нам надо!» Потому что про Россию (на Кубе, в Китае — ещё куда ни шло) в Бразилии ничего не знают. У них основа образа нашей страны — это та нарративная картинка, та пропаганда, которая велась в предыдущие тридцать лет: что это гигантская империя зла, которая вечно лежит под снегом, которая протянула свои щупальца везде...
— ...и тянет ещё.
— ...и абсолютно всё пытается контролировать. Как я шутил в своё время: если что-то происходит, прилетает на дирижаблях Киров, высаживает медвежью кавалерию и молча поправит всё. Вот такой несколько мифологизированный образ Советского Союза. А потом всё кончилось, кончился Советский Союз, пропаганда ушла, а образ остался. И когда они смотрят на «Метрономикон» (там Советский Союз сохранился до нашего времени), они говорят: это то, что нам надо. Это выдуманный мир, мы не хотим «русского Голливуда», русский Человек-паук нам не нужен, у нас уже американский есть. Нам нужен ваш образ с опорой на вашу литературу, на вашу мифологию, на вашу классику. У них в Бразилии многотысячным тиражом недавно вышел «Идиот» Достоевского. Вот с этой стороны, говорят они, мы вас знаем. А что было после Советского Союза, обычный человек не знает. (Понятно, что тот, кто смотрит политические передачи, гуглит какие-то ролики, тот знает.) Кстати, вот интересный момент, попытка создания супергеройской отечественной франшизы — фильм «Защитники». Критики у нас его ужасно раскритиковали. Тем не менее фильм получил прекрасный прокат в Китае и Латинской Америке. Вот именно с этой логикой: они хотят знать, что есть в России, пусть это будет даже выдуманный, несколько мифологизированный образ. И мы сейчас получили предложение (уже четвёртый месяц идёт) перевести книги франшизы «Метрономикон» на португальский и ханьский языки для издания в Китае и Бразилии. Пока не могу хвастаться, что уже издано, только работа идёт, но тем не менее мы смотрим в эту сторону и очень сильно надеемся, что наша попытка выхода на другие рынки с инструментами нашей мягкой силы будет работать.
— Сегодня вы разрабатываете сценарии и для онлайн-игр в том числе.
— Не только для онлайн — для всех.
— Какие это сценарии? О чём? Расскажите.
— У меня в портфолио сейчас 143 игры, с которыми я работал. Если я начну перечислять все, это будет довольно долго.
— Ну так, общо.
— Вот прямо сейчас я работаю (естественно, не я один — в коллегами) над проектом студии «Викинг» из Калининграда. Игра называется в русском переводе «Разведка 1944» — о действиях наших разведчиков в Восточной Пруссии за несколько дней до начала Восточно-Прусской наступательной операции, попытка в игровой форме показать, как разведчики приближали победу. И поскольку игра будет сделана в достаточно популярном игровом жанре тактической стратегии в реальном времени, то, в общем, коллеги без всякой задней мысли, без всяких оговорок планируют, что она выйдет на западный рынок. Именно на западный, не на «глобальный юг», и будет работать как тот самый инструмент мягкой силы. То есть донесёт нашу точку зрения на события Великой Отечественной войны.
— В принципе, и для нас это полезно.
— Ещё один проект, с которым сейчас достаточно активно сотрудничаю: игра называется «Контаминант». Atomic heart, наш проект, «Метрономикон», многие другие игры породили моду и даже создали новый жанр SOVIET PUNK, тот самый жанр о выдуманном Советском Союзе. Вот «Контаминант» — это хоррор-игра о приключениях на заброшенном постсоветском заводе. К сожалению, подробности раскрывать не могу, подписано соглашение о неразглашении, но, поверьте, когда вы доведёте игру до конца, вы будете очень сильно удивлены.
— Что же там таится? (улыбается) Интересно.
О нынешних событиях есть что-нибудь? Вот идёт сейчас СВО. Есть намётки, как в видеоиграх, книгах это отражать именно в фантастическом срезе?
— Я категорически против создания литературных произведений об СВО прямо здесь и сейчас.
— То есть должно пройти время?
— Да, масштабная русская литература, то есть эпохально-эпические произведения, должны пережить, переварить. Давайте вспомним, что лучшие книги о Гражданской войне вышли условно в 1925 году и дальше, например, «Тихий Дон». Булгаков, конечно, начал писать «Белую гвардию» в 1918 году, но тем не менее закончена она была отнюдь не в 1918-м. То есть нужно отрефлексировать этот мир. Ну, во-первых, чтобы всё закончилось, а во-вторых, прошло бы какое-то время, чтобы эти события уложились в голове, иначе книга будет сиюминутная.
С другой стороны, конечно, есть, что называется, окопная проза, та самая правда взглядом человека непосредственно с линии боевых действий — это, конечно, нужно издавать. В апреле 2022 года в одном из не столь отдалённых городков России я выступал на литературном фестивале, встречался во школьниками, рассказывал о нашем фестивале «Звёзды над Донбассом», который проходит в Донецке, о том, что участники фестиваля учредили фонд, фонд помогает жителям освобождённых деревень. И вот поднимается девочка, школьница, голубые глазки, очень красивая, спрашивает меня: «Вы так страшно рассказываете: расстрелы, беженцы... А у нас что, война?»... Конечно, это 2022 год, но апрель, это уже несколько месяцев шла СВО. И книги, то, что принято называть окопной прозой, встречи, интервью, снятые на горячем материале, фильмы, конечно, тоже должны быть, чтобы доносить мысль о том, что там происходит, какие задачи решает наша армия, какие задачи решает правительство. И взгляд из окопов, пускай не всегда лицеприятный, тоже нужен.
Но всё-таки, возвращаясь к идее о позитиве: мы всегда старались как-то дать надежду. Когда мы впервые приехали на Донбасс, ещё задолго до начала СВО (фестиваль «Звёзды над Донбассом» проходит с 2019 года), тогда вместе с организаторами фестиваля придумали такую идею. Главный идеолог фестиваля Александр Кофман, глава Общественной палаты Донецкой Народной Республики, и я решили сделать сборник фантастических рассказов о будущем Донбасса — так и называется «Живи, Донбасс!», который бы рассказал, что война кончится. Просто нам сейчас очень тяжело понять ощущение дончан, которые к тому моменту уже более пяти лет жили под постоянными обстрелами. То есть белгородцы, жители Курской области только сейчас с этим столкнулись. Вся большая Россия посылает туда своих сынов, но в основном читает это в новостных сводках, а вот как это всё переживают жители непосредственно Донецкой и Луганской Республик, тогда действительно очень мало кто понимал. И книга «Живи, Донбасс!» — это сборник фантастических рассказов, которые были призваны дать надежду, что война не вечна, что она окончится, что мы победим, что обстрелов не будет, что город начнёт восстанавливаться. Наверно, это и была основная миссия, которую фантасты, приезжающие на Донбасс, пытались донести.
Мы встречались с людьми, показывали, что русская культура — это единое пространство и что мы здесь все… Для людей, которые находятся прямо в горниле военных действий, прямо непосредственно если не на линии фронта, то их жизни угрожает невольное участие в военных действиях, история, что мы приехали вас поддержать, выглядит достаточно цинично. А вот история о том, что мы приехали с вами поделиться, поговорить с вами, рассказать о русской культуре, рассказать о том, что мы можем вам дать, спросить, чем мы можем вам помочь, узнать, что вам интересно от нас слышать, — да! И в конце концов после всех этих бесед выходит первая книга. Сейчас уже шесть книг вышло — пять напечатано, шестая готовится.
— Под тем же названием?
— Это условная серия фестиваля «Звёзды над Донбассом», название каждый раз разное. Сначала был «Живи, Донбасс!», потом «Донбасс живёт», далее «Юный Донбасс». Затем мы ездили в Южную Осетию — был сборник «Живи, Осетия!», потом «Донбасс. Русский герой». Вот сейчас у нас будет проект «Россия. Образ будущего» — как раз фантасты с Донбасса, из новых регионов и авторы из России, которые приезжали на фестиваль, пофантазируют о том, как будет выглядеть обновлённая Россия в целом через 10-15 лет после событий СВО.
— А как вы выбираете авторов, которые войдут в сборник?
— В основном это все авторы, которые приезжают на фестиваль. Потому что для нас ключевым условием является то, чтобы авторы всё увидели своими глазами.
— Прочувствовали?
— (Кивает головой). Знаете, когда мы приехали через несколько месяцев в освобождённый Мариуполь, тоже встречались со школьниками, со студентами, с читателями, проводили мероприятия, не наш приезд был самым, наверно, важным событием для мариупольцев. А то, что трамвай пустили! Санкт-Петербург прислал из своего парка несколько десятков трамваев. В городе снова стал ходить трамвай. По-моему, это было намного важнее, чем приезд писателей из России. Вот это ощущение, когда мы смогли передать образы, наверно, намного важнее... Нет, не буду говорить, наверное, естественно, это тоже важно, но любое участие людей, как они говорят, с большой земли, должно быть не для галочки: вот тоже приехал на Донбасс. Когда люди помогают, необязательно гуманитарной помощью — у нас было что-то вроде агитбригад, как в Великую Отечественную: поэты, барды ездили выступать. У нас были встречи в Мариуполе. Встречаемся со школьниками, директор школы говорит: «Это все, кого смогли собрать, из четырёх близлежащих школ только наша осталась целая, сейчас вот крышу отремонтировали, всех школьников объединили в одну школу»... И мы просто с ними разговаривали: мы не политические лозунги провозглашали, не слушали, чем они недовольны или, наоборот, что им нравится. Просто с ними разговаривали об искусстве, о русской литературе, о культуре. И, что самое страшное, кстати говоря, разговор о литературе был разговором в пустоту.
— Почему?
— Потому что из библиотек, и в первую очередь из школьных библиотек, Пушкина, Достоевского, Некрасова, Маяковского — всех вывезли. То есть читаешь лекцию, рассказываешь о каких-то достижениях в литературе, в сценарном искусстве, естественно, опираешься на русскую классику, — а они этого не читали. Не потому что не хотят.
— А потому что их лишили.
— А потому что не могут. У них просто всё это забрали.
— Ужасно, конечно...
Я хотела вернуться к вопросу о фестивале, который завершился в Омске. О будущем его сказать что-то можно? Фантасты что-то могут сказать?
— Вопрос, наверно, не ко мне, это всё-таки к организаторам фестиваля.
— С вашей точки зрения, есть у него перспектива?
— Всё зависит от того, как относятся к этому сами омичи и городские власти, потому что любой подобный фестиваль, для того чтобы он стал постоянным, ежегодным, должен получить поддержку городских властей, культурных властей в первую очередь. То, что сейчас удалось собрать «в одном флаконе» ресурсы Союза литераторов — нашему Омскому отделению вообще нужно памятник поставить, потому что они это всё инициировали, Тамара Львова тащила всё это на своих плечах! ТЦ «Континент» и парк «Россия — моя история», которые подключились к этому как площадка, локация, тоже большие молодцы, потому что рискнуть отдать помещение — для ТЦ это вообще не профильное мероприятие — достаточно серьёзный риск. Рукопожатие перед строем и грамота от мэрии должна быть! Конечно, нужно отметить Ассоциацию книжных фестивалей «Читающая Россия», потому что я вижу, сколько фестивалей коллеги проводят в год: они просто бешено занятые люди, у которых пухнет голова от того, кого куда нужно привезти, кого где разместить, куда отправить книги, где книги забрать, кто-то потерялся, у кого-то самолёт опоздал... В общем, у них огромное количество накладок, постоянно они их разруливают. Михаил Фаустов, сейчас он здесь, в Омске, — он держит руку на пульсе. Вообще герои — это Тамара Львова и Михаил Фаустов. Это надо обязательно проговорить, пусть эти люди получат свою минутку славы!!!
Я очень надеюсь, что город — именно город! — поддержит этот фестиваль. Мы как Союз литераторов, конечно, продолжим оказывать всю возможную поддержку и с технической точки зрения, и с точки зрения юридического сопровождения фестиваля. Сами приедем, выступим, но мы не можем из Москвы здесь что-то решать. Конечно, это здесь, на месте, должно происходить, и если город поддержит, то фестивалю быть! Я думаю, что он будет в любом случае, даже если никакой помощи не придёт, но если организаторы фестиваля хотят не просто повторить, а расширить масштаб, то тут надо, конечно, обращаться к городским властям.
— Большое спасибо вам за беседу. Спасибо, что приехали в Омск и порадовали наших и читателей, и авторов.
— Вчера вот подходили и спрашивали. Я не первый раз в Омске. Это же знаменитый мем: «Не пытайся покинуть Омск!» Я уже неоднократно приезжал, покинул, приезжал ещё раз, поэтому меня тут ничего не пугает.
— Не покинете его.
— С удовольствием приезжаю, да. И никогда мы не отказываемся. В принципе, это наша миссия Союза литераторов. Мы вчера так образно выступили: рассказали, как в китайской культуре у китайских императоров был такой кочующий двор, который ездит по провинциям, встречается с людьми, с чиновниками и выслушивает их чаяния, кому-то помогает. Вот мы немножко пытаемся изображать такой кочующий двор, кочующую столицу, потому что проходит много мероприятий, мы их по возможности поддерживаем. Где-то сами приезжаем, когда не успеваем, то, например, у нас очень мощное Новосибирское отделение: сюда, в Омск, тоже несколько человек приехали, свои проекты представили. Есть проекты онлайн- и офлайн-мероприятия. Поэтому мы будем с удовольствием и дальше продолжать поддерживать и Омск в целом, и конкретно наш фестиваль.
— Спасибо!
— Пожалуйста!
Полную версию видеоподкаста можно посмотреть здесь