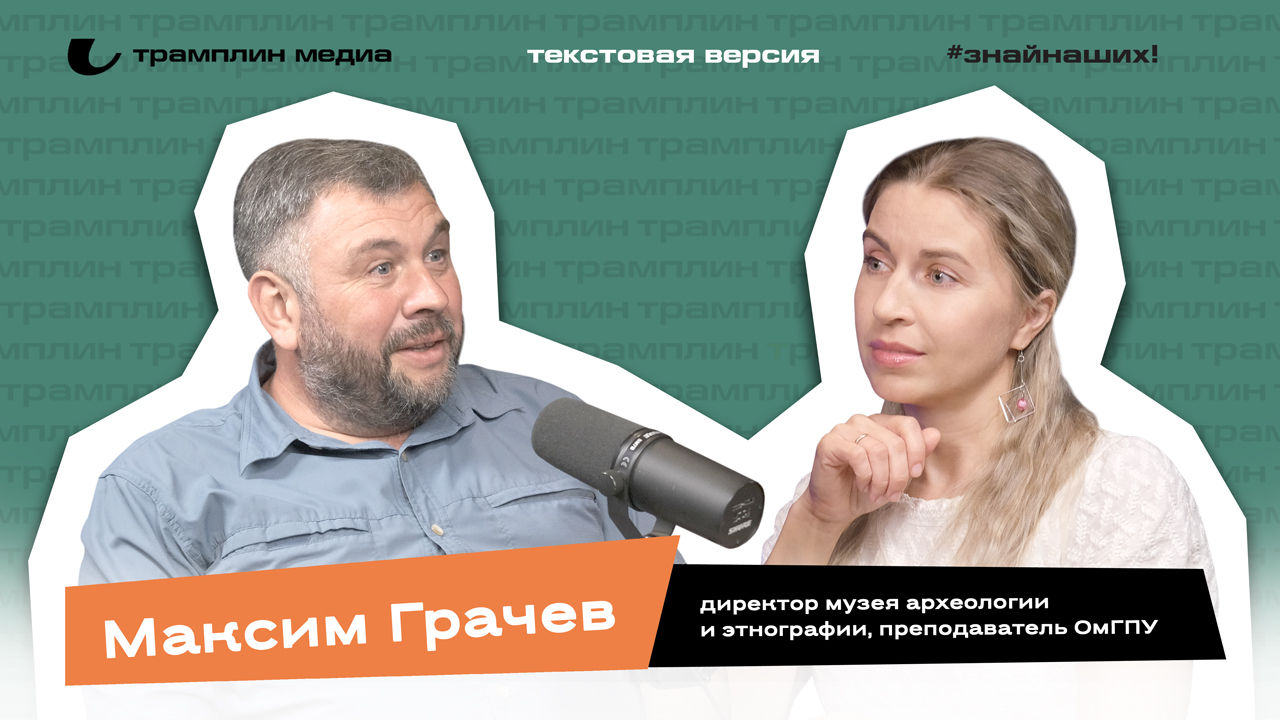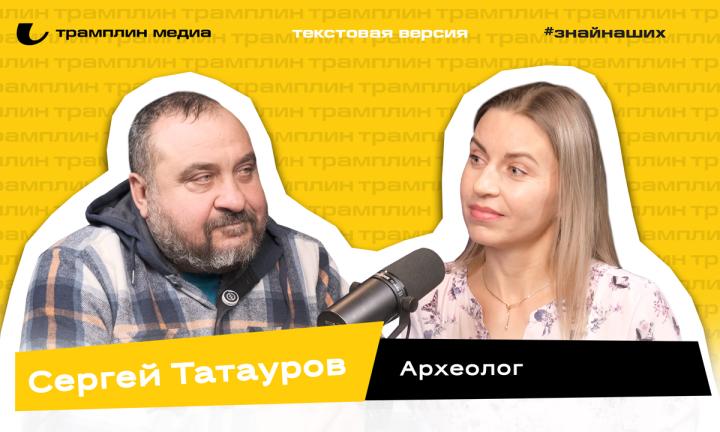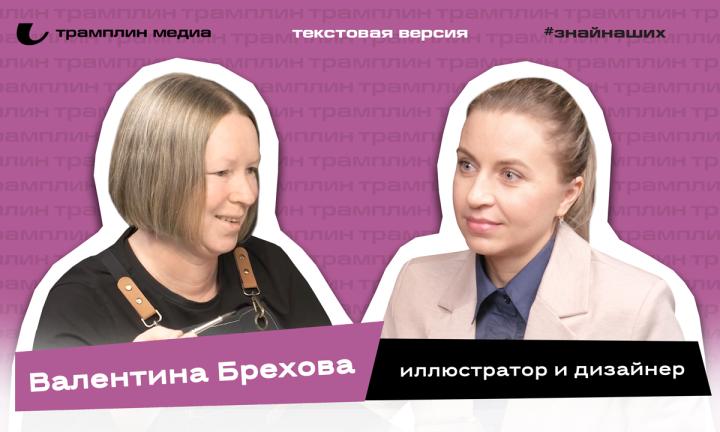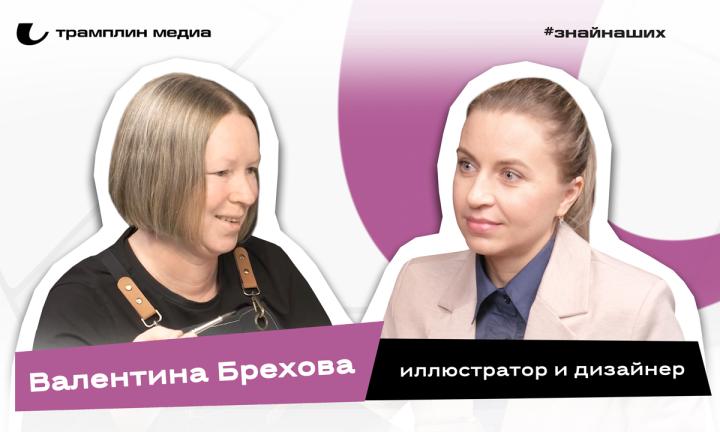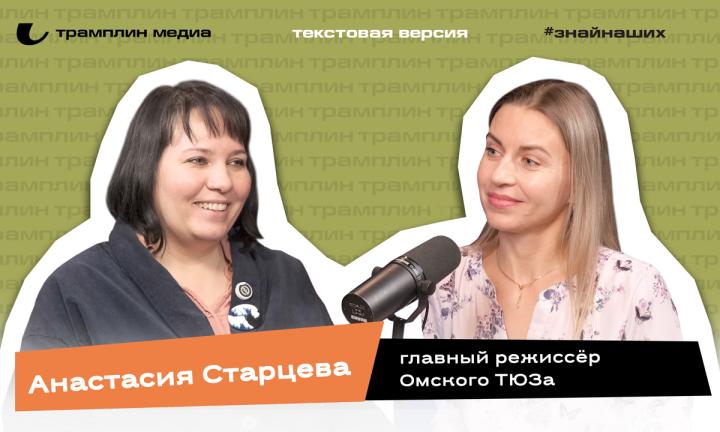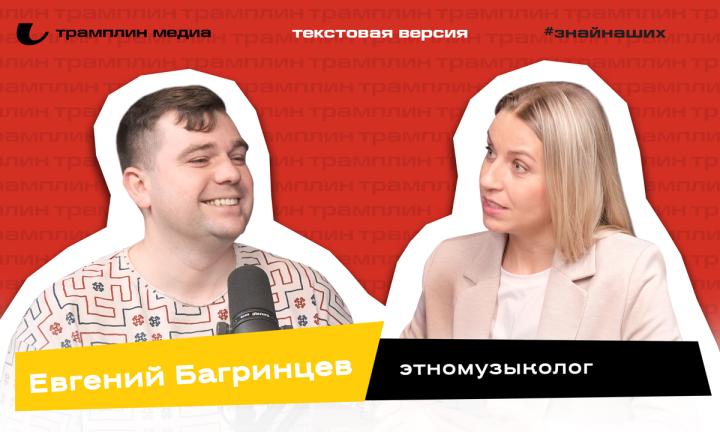Дата публикации: 16.08.2025
Для тех, кто любит читать, текстовая версия подкаста «Знай наших!» с Максимом Грачёвым, директором музея истории и этнографии, преподавателем ОмГУ.
Марина Бугрова:
— Подкаст «Знай наших!» на медиа «Трамплин». Всех приветствую! Наш собеседник сегодня Максим Грачёв, директор музея археологии и этнографии, преподаватель исторического факультета Омского государственного педагогического университета, а также заместитель председателя Всероссийского общества «Русское географическое общество». Максим Александрович, рада видеть вас!
Максим Грачёв:
— Мне тоже очень приятно. Добрый день!
— Лето в разгаре. Для археолога самое благодатное время для работы. Спасибо, что нашли полчаса своего времени, для того чтобы забежать к нам в студию. В течение 20 лет вы являетесь участником и руководителем различных археологических проектов. Их география достаточно приличная — от Карского моря до границ Казахстана. Это лето где проводите?
— Уже больше 25 лет: первая моя археологическая экспедиция — это моя практика в 1998 году. Это ещё прошлый век. (Оба смеются.) Так уж вышло. География моих поездок в последние годы очень обширная — это на самом деле от Карского моря, от полуострова Ямал, полуострова Гыдан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, Томская область, Омская область до границ с Республикой Казахстан, ну и сопредельные регионы. А поскольку я возглавляю коллектив археологов в рамках нашей компании «Научно-производственный центр «Архео», то вот если говорить о границах работы нашего коллектива, то это от Северного Ледовитого океана до южных рубежей нашей Родины и от Урала до Якутии.
— Приличная территория.
— Да, это треть, даже, наверное, более чем треть Российской Федерации.
— Где это лето проводите?
— Во-первых, у нас большой раскопочный проект в рамках уже многолетнего инициативного научно-исследовательского проекта по изучению курганов саргатской культуры в Омской области. Мы будем копать в районе села Новопокровка Горьковского района. Это такой базовый, якорный, длительный экспедиционный проект, но кроме него будут разведочные выезды на Север, в Ханты-Мансийский автономный округ, на Ямал. Коллектив вот уже сейчас ведёт различные работы в этих регионах.
— Что копаете, что находите, чем манит это место — Горьковский район? Мы о нём много слышим.
— Главная находка археолога — это душевное равновесие (оба смеются). Вот именно его мы, видимо, ищем и находим. А вообще Горьковский район — это правда в некотором смысле археологическая Мекка для омских археологов, потому что на территории этого района сосредоточено уникальное скопление курганных могильников эпохи раннего железного века. Это такая базовая, материнская территория для саргатской археологической культуры. Это культура, родственная скифам, — ну, чтобы было понятно. Скифам, сарматам, кочевали в Причерноморье, на Кубани, на Дону, на Днепре. Их культурные родственники у нас, в Западной Сибири, — это в том числе саргатская археологическая культура. Носители этой культуры оставили там очень большое количество курганных могильников. Мы изучаем эти могильники, раскапываем курганы, уже больше пяти лет мы там работаем и пытаемся глубже понять, скажем так, социальную картину этого общества. Мы пытаемся работать на стыке экологии, географии, археологии, биологии, других научных дисциплин, чтобы попробовать построить такую картинку — мы её сложно называем «социальный ландшафт»: понять, как люди взаимодействовали с природой, как они на неё влияли и как природа влияла на них, как они встраивались в ландшафт, как они его видоизменяли, приспосабливая его к более комфортной, удобной жизни, как этот ландшафт в чём-то предопределял их взаимоотношения с природой и внутри коллектива. Такая очень длинная история — уже больше пяти лет мы этим занимаемся в Горьковском районе.
— Эти знания для современного человека будут полезны?
— Ну вот журнал лежит (показывает на лежащие на столе выпуски печатного журнала «Трамплин. Возможности»), он же вам дорог?
— Ну да.
— Возьмите журнал, откройте его и попробуйте вырвать из него страницу. Будут скрести кошки на душе, да? А теперь представьте, вы из паспорта страницу с пропиской вырываете, а потом вырываете страницу… не знаю, есть ли у вас дети, с детьми, куда они у вас вписаны.
— Да любая страница дорога.
— Он становится негодным. Вы вырываете то, что вас делает частью социума Российской Федерации, вы разрываете связь с этим государством. Нормальный человек это делать не будет, правильно? У каждого из нас с вами есть история, которую нам рассказали наши бабушки и дедушки. У каждого из нас есть история, которую мы изучали в школе. За каждым из нас стоят поколения наших предков. Отказываясь от изучения нашего прошлого, мы вырываем страницы из своего паспорта, мы стираем это прошлое. Есть избитая фраза про Иванов, не знающих родства. Она, правда, уже затёрлась. А вот представьте себе, что вы не то что Иван, родства не помнящий, вы человек с амнезией. Общество с амнезией. Не изучая прошлое, невозможно найти себя в настоящем. Поэтому любые знания, которые мы получаем о нашем прошлом, о прошлом той территории, на которой мы проживаем, безусловно, важны для нас с вами. Прежде всего, если хотите, в мировоззренческом, таком большом контексте. Для того чтобы осмыслить себя и своё место в мире, в жизни, а это экзистенциальная проблема, которую мы ежедневно с вами решаем, не думая над этим. Решить эту проблему можно, только изучая наше прошлое в том числе.
— Получается, археолог — это больше чем историк?
— Не сказал бы, что больше чем историк. Очень сложный такой методологический спор. Если мы по нему пойдём, вообще уйдём в глубокие дебри. Чтоб было просто и понятно, вообще в широком смысле прошлое изучают историки, они вербализируют, выстраивают нарративы и на понятном человеку языке рассказывают об этом прошлом.
— Такая теоретическая часть.
— Они нам дают картинку, нарратив, в который мы вписаны. А для того чтобы этот нарратив был построен, кто-то должен подтаскивать факты.
— Обеспечить базу.
— Да, строить фундамент. Для самых древних периодов истории такой базой являются данные, полученные археологами. Не было письменности, письменных источников нет, прочитать о том, что происходило в III веке до нашей эры, например, на территории Омской области, невозможно. Соответственно, нужно просто ехать и копать, получать эти данные из-под штыка лопаты.
— Вы очень часто задаёте (наверное, каждый год) своим студентам, особенно первокурсникам, вопрос, что такое археология.
— Ежегодно.
— А сами для себя уже ответили на вопрос, что такое археология? И прежде всего для вас что такое археология?
— Археология — это наука, которая изучает прошлое по материальным остаткам. Так написано в учебнике. Археология для каждого археолога — в некотором смысле это неотъемлемая часть нашего бытия. Это занятие, которому многие из нас жизнь на алтарь положили и вот живут с этим. Счастливо живут, кстати. Мой учитель когда-то в одной из песен написал, что жизнь свою он исчисляет не годами, а полевыми сезонами. Для нас каждый год — это полевой сезон, и ты якорные, базовые метки ставишь для себя именно в рамках сезона: что нашёл тогда, с кем тогда ездил, а не что произошло в том году. Археология — это то, что позволяет нам, в том числе и археологам, найти себя в этом мире, понять, кто мы, что мы и зачем мы.
— Вы сразу нашли себя?
— Нет. Такие случаи вообще редко бывают.
— Я знаю, что вы изначально вообще не любили ездить на природу, и комары, грибы, ягоды — это не про вас.
— Я родился в 1980 году. В этом году мне 45 лет. То есть я (был) ребёнком в 80-х — начале 90-х — время не самое сытное, не самое лучшее. Так вот было построено тогда общество, что люди часто ездили на природу, это правда: рыбалка, сбор грибов, ягод, просто на природу съездить отдохнуть. И да, в детстве мне это не очень нравилось. Так сложилось, что не очень комфортно мне было на природе. Так бывает, я домашний ребёнок в прошлом.
Когда я поступил на исторический факультет, я, как и все, должен был пройти археологическую практику, и я на неё поехал.
— Это было преодолением?
— В некотором смысле да, я не сильно хотел, но я в целом дисциплинированный человек. Ну, надо пройти часть учебного плана — я поехал.
— А ломать себя пришлось?
— Ежедневно себя ломаем (смеётся). Так или иначе.
Я не хотел, но поехал. Первая ночь мне не понравилась: комары, не очень комфортно. Ещё это был 1998 год, очень жаркое лето, ни одного дождя за всю экспедицию. Летом температура 35, 37, 38 градусов. Вы представьте, что тени нет, спрятаться негде, палатка нагревается. Кошмар! Одно спасение — Иртыш рядом с лагерем. На второй день мы закончили установку лагеря, пошли на раскоп, начали размечать раскоп на земле, и второе или третье движение лопатой — и я из-под штыка лопаты вытаскиваю непонятный мне предмет. Какая-то каменная пластинка у меня в руках оказалась. Я её показываю старшим ребятам, они куда-то побежали, привели научного руководителя Евгения Михайловича Данченко. Он посмотрел и сказал: я тебя поздравляю, твоя первая археологическая находка — это каменная ножевидная пластина. Я спросил, сколько ей лет. Он сказал: ну, больше четырёх тысяч лет точно.
...Тебе 18 лет. Ты стоишь в Усть-Ишимском районе у чёрта на куличках (мы туда 12 часов на теплоходе добирались), на каком-то мысу, на террасе; ты держишь в руках вещь, которую в последний раз до тебя человек держал в руках минимум четыре тысячи лет назад! Вот тогда у меня в голове что-то произошло. Я понял: а это здорово! Вот этим можно заниматься, это же прямо очень круто — держать в руках древности!
Кстати, возвращаясь к вопросу, что такое археология. Археология, археологический предмет — это возможность напрямую прикоснуться к истории. Это история, которую можно потрогать руками.
В этот же день или на следующий, уже точно не помню, я принял решение, что я на курсовые работы ухожу к Евгению Михайловичу: с ним тогда же, в экспедиции, поговорил, и до конца обучения в университете я каждый год ездил на раскопки, каждый год писал курсовые работы, и дипломную работу я защищал по археологии.
— Зацепило на всю жизнь.
— Да, вот тогда, собственно, это и произошло.
— А вообще это везение — найти первокурснику в своей первой практике на первых раскопках какой-то предмет?
— Всё зависит от того, какой тип памятника копается. Мы копали поселение, причём поселение многослойное. Там как раз была эпоха камня, эпоха бронзы, эпоха раннего железного века, средневековья. Там такая пачка прямо слоёв была! И там везло практически каждому.
— Если пачка — конечно!
— А если копается, например, погребальный памятник, вот как мы сейчас в Новопокровке раскапываем, — ну, не каждому везёт. Потому что там другого рода археологический объект.
— Есть ребята, которые — «всё, до свидания, не моё»?
— Всегда такие были, всегда такие будут. Мы все разные. Это нормально.
— А что за памятник вы копаете сейчас? Погребальный, вы говорите.
— В этом году мы будем копать курган из состава могильника Новопокровка-IX. То есть в районе Новопокровки, как вы можете догадаться, памятников минимум девять, а вообще их больше.
— Десять я знаю, шестнадцать...
— 16-ю мы копали, 17-я Новопокровка — да. До этого мы раскопали курган из состава могильника Новопокровка-IV, раскопали 10-ю Новопокровку, 16-ю Новопокровку и курган из состава могильника Новопокровка-XIII. Вот в этом году будем копать 9-ю Новопокровку.
— Что там?
— Нам повезло. В районе Новопокровки до нас не работали археологи как раскопщики. То есть памятники там были известны, их открыли ещё в 60-х годах прошлого века. Несколько раз их обследовали, уточняли их состав. Наш коллектив, собственно, начал работы с того, что мы провели детальную разведку. Мы нашли тогда новые памятники и продолжили их нумерацию, составили очень точный и подробный план, и в том числе при помощи последних средств не так давно мы использовали лазерное сканирование поверхности…
— Мощно!
— Да. Тахеометрические съёмки, всё-всё, что можно было использовать сейчас, мы сделали. Определили, что есть некоторое количество курганов, которые вызывают у нас научный интерес, и мы прицельно каждый год по одному, максимум два кургана раскапываем и пополняем корпус источников по истории саргатской археологической культуры.
Один курган — это вроде бы немного, но современные технические средства позволяют нам по-новому взглянуть на эти памятники и извлечь из них информацию, которую до сих пор извлечь не удавалось.
— Например?
— Курган Новопокровка-XVI на пахотном поле. Он ежегодно распахивался в ходе обработки этого поля. На нём даже собирались проводить соревнования по скорости вспашки среди механизаторов Омской области.
— Ничего себе! Вспахали бы…
— Да. Нам тогда удалось его спасти. Даже не нам — Министерство культуры Омской области обратило внимание и попросило не проводить там соревнования. В тот же год мы туда выехали, договорились с хозяином этих полей — это Спартак Георгиевич Кесов, фермер, которому сейчас эти поля принадлежат или находятся у него в аренде. И мы за один сезон этот курган раскопали. Распаханный курган — это курган, в котором сохраняется очень мало объектов. И так вышло, что в этом кургане было две могилы. Одна находилась под ним, впущенная в грунт глубоко, а другая могила была в теле, в насыпи кургана. И вот эта запашка её просто уничтожила: кости были растащены плугом. Контуры могилы, например, установить не удалось. Но мы приехали туда и работали не одни. Мы работали с палеопочвоведом. С нами работала Марина Карапетян — это замечательный антрополог из МГУ. К нам приезжали геохимики, которые брали пробы грунта, воды.
— То есть всё на месте делалось?
— Всё делалось на месте.
— Антрополог помог собрать эти разбросанные кости?
— Мы все эти косточки собирали, фиксировали, относили в камеральную палатку, и Марина собрала вот этого человека, ну, не полностью, но достаточно хорошо, чтобы было понятно, кто это и что это.
— Вы поняли?
— Да, это был мужчина, с ним было всё нормально, он был похоронен, просто плугом был уничтожен костяк, скелет. Сама центральная могила, та, которая была глубоко впущена в грунт, была ограблена в древности.
— Кстати, эта история с ограблениями часто встречается?
— Для саргатских памятников — вообще очень часто. Просто потому что люди надеялись всегда найти в этих курганах…
— ...золото, серебро?
— Да. И вот этот курган был ограблен в древности, наверное, ещё в раннем железном веке.
— А они сильно искажены под воздействием, скажем так, варваров?
— Из этой могилы выкинули почти всё. Там остались буквально пара бусинок, несколько фрагментов керамики, ну, и вот были кости раскиданы. Казалось бы, что вы можете извлечь из полностью ограбленного, уничтоженного запашкой кургана?
— Но вы узнали?
— Да, конечно. Во-первых, мы выявили ров вокруг кургана. Он не читался на поверхности, но в процессе раскопок мы его открыли. Во рву мы нашли остатки тризн. Тризна — это поминки, которые проводились спустя какое-то время — или в процессе захоронения, или после него. Такими остатками были челюсти лошадей, кости лошадей, которых приносили условно в жертву и которыми поминали умерших, которых хоронили в этом кургане. Мы установили, что ров был однажды создан, а потом его реконструировали, подновили. Когда мы показали зубы, челюсти вот этих лошадей специалистам палеозоологам, они определили, что лошадей убивали в первую половину лета. То есть мы узнали сезон забоя скота, а как вы понимаете, забивали скот специально под вот эти действия. Ну и, скорее всего, хоронили человека, который был погребён в центральном захоронении, тоже в первую половину лета. Прошло больше двух тысяч лет, а мы узнали, когда это происходило! Дату погребения мы уточняем сейчас при помощи современных способов — это масс-спектрометрия. Из костных останков, видимо, получится извлечь ДНК. Мы сможем понять, где сейчас проживают потомки этого человека и с какими другими древними сообществами он был связан. Но на этот вопрос нам дали неожиданный ответ геохимики. На наших с вами костях оседает стронций — химический элемент, который у нас обычно связан с ядерной энергетикой. Он накапливается в организме, оседает в костях. В зависимости от того, в какой местности мы живём, количество стронция может варьироваться. Там есть ещё период полураспада этого стронция, всё остальное... Ну вот, геохимики замерили количество стронция в костях этого погребённого человека, отобрали фоновые пробы из грунта и воды. И для современных жителей Омской области это количество тоже известно. Выяснилось, что человек, который там был похоронен, НЕ местный. Он сюда приехал с территории Казахстана. Большую часть жизни он прожил там, потом приехал сюда и здесь, видимо, обрёл свою вторую родину, умер и похоронен был здесь.
— Ну, теперь возникает вопрос, что он здесь делал?
— Что он здесь делал, зачем ему сюда необходимо было приехать? Естественно, мы предполагаем, что в рамках такого большого культурного скифо-сибирского мира (это мир, который занимал степные пространства Евразии) могли быть вот такие подвижки населения. Мы могли предполагать, что они были. Сейчас у нас есть доказательства в виде вот этого конкретного костяка. Ну, естественно, это не единственный памятник, который мы раскопали, и такие анализы мы сейчас готовим для последующих материалов, которые были получены. Мы теперь можем более точно построить модель взаимодействия западносибирского населения и степного южного населения. Очевидно, что жители лесостепных районов Западной Сибири, в том числе Омской области, очень плотно общались с народом, который в древнегреческих источниках назывался — саки. Это одна из групп тоже скифского населения, и похоже, что вот эти самые саки, которые жили к югу, в какой-то период времени стали частью саргатского общества. Более того, они стали частью элиты саргатского общества. Они привнесли сюда новые культурные тренды, стали культуртрегерами, задали новые моды — на оружие, на поведение, на причёски, на предметы быта, на украшения.
— Это очень интересно!
— И если до сих пор мы это фиксировали только в вещах, а вещь может сюда проникнуть в рамках торговых, например, каких-то обменных операций, то здесь мы фиксируем присутствие человека конкретного, который вот оттуда сюда приехал и стал лидером в каком-то сообществе, в коллективе.
— Новейшая техника, которая появилась особенно активно буквально последние 15 лет, какие загадки может ещё нам приоткрыть, помочь разгадать тайны?
— Археолог всегда считался помесью вьючного животного и человека, который умеет внимательно смотреть.
— Как вы сравнили-то! (смеётся)
— Это не я. Сейчас всё, что пришло из новых технических средств в нашу профессию, — прежде всего это новые возможности фиксации того, что мы находим. Вот когда я был на практике в 1998 году, мы мерили глубины нивелиром. Да, это оптический прибор, который относительно точно позволяет установить глубину залегания находки, а положение находки в пространстве мы измеряли при помощи рулеток. То есть у нас был раскоп, разбитый на квадратные сектора. Мы к колышкам прикрепляли рулетки, выводили угол в точке их пересечения, и на планах циркулями отмечали точку.
— Ручной обычный метод.
— Да и точность… Рулетка может провиснуть. На разной высоте находятся колышки. Всё это было как бы плюс-минус. Мы старались это делать максимально точно, но всё равно погрешности были. Сейчас мы фиксируем находки при помощи лазерных тахеометров, их погрешность — это доли миллиметра. По высоте, по Х, Y координатам точность выросла кратно. Это позволяет нам намного увереннее оперировать фактами, которые мы фиксируем.
Самое замечательное, на мой взгляд, что произошло… Когда я поехал в свою первую археологическую разведку в 2002 году, у меня был фотоаппарат «Зенит-ЕТ» и уже цветная, правда, плёнка на 36 кадров.
— И вы ограничены в ресурсах.
— Да, я еду в разведку, я могу сделать 36 сюжетов, не больше. Найти фотоплёнку в селе Саургачи, наверно, было невозможно. Сейчас цифровая фототехника позволяет нам производить фотофиксацию в таких объёмах, о которых мы раньше могли только мечтать. Мы спокойно фиксируем панорамы, мы спокойно фотографируем находки с разных сторон. Поскольку в последнее время появились ещё и возможности из фотографий, сделанных с разных ракурсов, сшивать псевдотрёхмерные модели, создавать ортофотопланы, то мы теперь можем буквально взять любой предмет, отфотографировать его прямо в поле, можем расчищенную могилу отфотографировать по кругу, а потом загоняем в специальную программу, она сшивает эти фотографии, и у нас получается трёхмерная модель для хранения. Если раньше мы могли обращаться к нему (захоронению) только по плану, нарисованному от руки в поле с натуры (это тоже точно всё измерялось, очень долго, муторно это нужно было рисовать), то сейчас у нас просто есть трёхмерная модель в истинных масштабах, размерах, и можно кликать мышкой и изучать нужные тебе детали, рассматривать с разных сторон, крутить захоронение как угодно.
— Это просто сказка, а не археология!
— Да, когда-то мы об этом и мечтать не могли. В 2013 году мы на Омской стоянке (это памятник в городе Омске на левом берегу Иртыша на территории профилактория «Восход») в ходе раскопок жилища на дне нашли костяной панцирь эпохи бронзы: человек по какой-то причине его снял, положил на пол, потому куда-то ушёл и не вернулся. Жилище оказалось заброшенным, потом провалилась крыша, всё это было запечатано землёй. Вот мы его нашли, расчистили. Я неосознанно, не зная ничего об этой технологии, тогда просто по кругу ходил, у меня уже была цифровая камера, сделал десятка три фотографий. В зиму 2013/14 года я внезапно узнал, что есть такой замечательный способ готовить такие штуки. У своих друзей в Томске я загрузил тогда фотографии, прошло какое-то количество времени, и мы получили трёхмерную модель этого панциря, причём это выглядит как фотография, которую можно, как стерео, крутить, рассматривать. Я был поражён! И сразу же побежал её себе покупать. (Смеются оба.)
— Какая находка до сих пор в памяти, самая-самая для вас?
— Ну, кроме первой, во время раскопок курганного могильника Красноярка-IV, это тоже Усть-Ишимский район Омской области, раннесредневековый могильник гуннского времени. Гунны — был такой народ, который прошёл из Китая в Европу, и потом на Каталаунских полях они там воевали. Так получилось, что был очень маленький отряд, человек восемь или девять — что-то такое, и я остался на могильнике один. Один проводил зачистку, приводил в порядок и должен был просто вернуться в лагерь позже. Вот я подчищаю будущую могилу, ещё плохо читаются её контуры, движение лопатой — и что-то блестит под лопатой...
— Вот это счастье!
— А потом оказалось, что это такая бронзовая тяжёлая чаша, большая, которая выше уровня черепа стояла в могиле. Собственно, она подтвердила, что это именно захоронение, которое очень плохо читалось в контуре по грунту. Потом мы расчистили, захоронение оказалось таким очень хорошим, красивым!
— Нетронутым?
— Там был похоронен мужчина, захоронение было не разграблено, костяк его практически не сохранился, к сожалению, но кроме чаши там лежал глиняный горшок, там были серьги, был пояс, даже остатки кожи от пояса. Пояс был из белого металла, видимо, серебра, с инкрустациями, там был ножик в деревянных ножнах, такие красивые полые подвески...
— Сегодня вот таких романтиков много?
— Романтиков всегда хватает в любые эпохи.
— Археология насколько популярна сегодня, нежели 20-30 лет назад?
— После довольно длительного перерыва это первый курс, который я вот прямо взял и повёз на практику. Для меня это был такой вот новый старый опыт, а они были новичками, которых откуда-то выдернули и куда-то повезли в ту самую Новопокровку. Условия тогда были довольно тяжёлые, тоже было жарко, нам приходилось далеко ходить на раскоп как раз в той самой 16-й Новопокровке. Вот сегодня они оканчивают вуз. С этого курса со мной на будущий сезон осталось больше 10 человек. Больше 10 человек ежегодно летом со мной выезжало, и даже сейчас вот они окончили вуз, им нужно трудоустраиваться, нужно дальше строить свою жизнь, а они — как вот я когда-то: да бог с ним, в июле лучше съездить покопать…
— Это уже преданные, наверно, люди.
— Это друзья. Это младшие друзья, которых обрёл в жизни, и они где-то рядом.
— Помимо научной деятельности у вас ещё есть, так скажем, частная коммерческая организация. Расскажите о ней, что это, чем вы занимаетесь в её рамках?
— Обычно люди очень сильно удивляются, что в нашей стране есть коммерческая археология.
— Очень удивляются и думают: это, наверное, кто-то захотел покопать — и везут их туда.
— Это первое благородное предположение: что вы, наверно, организуете археологический туризм. Люди, которые ищут негатив, думают, что мы продаём находки.
— Но их, кстати, скажите правильно, продавать нельзя?
— Находки никто не продаёт.
— Они все регистрируются.
— Всё, что мы находим, сдаётся в музеи. И тут нужно понять меня правильно, археологи — люди тщеславные, и наши находки, сданные в музей на хранение, — они ведь нас переживут. И наши отчёты, сданные в полевой комитет, нас переживут. Это то, что мы гарантированно после себя оставим нашими потомкам. Не то чтобы именно это нас останавливало от того, чтобы что-то утаить и продать, а просто как люди, изучающие прошлое, мы понимаем, что каждый факт о прошлом очень важен! Иногда самый мелкий невзрачный фрагмент керамики может рассказать больше, чем золотая пектораль, найденная в кургане. Поэтому очень важно всё зафиксировать, всё собрать и передать в музей. Чтобы с этими находками имел возможность работать не только ты, но и другие специалисты, другие археологи.
Коммерческие компании, занимающиеся археологией в нашей стране, зарабатывают не на продаже находок. В нашей стране есть целая отрасль экономики, связанная с коммерческими археологическими работами. Дело в том, что согласно законодательству, согласно Конституции, 73-му Федеральному закону об объектах культурного наследия все объекты культурного наследия, включая археологические, в нашей стране являются собственностью государства. А государство как собственник заинтересовано в обеспечении сохранности. Вот если у вас что-то есть, вы наверняка хотите это сохранить. И для того чтобы эти следы деятельности наших предков, эти следы прошлого нашей страны сохранились, 73-й Федеральный закон, другие подзаконные акты обязывают застройщиков, строителей, землепользователей, недропользователей, до того как какие-то земляные работы будут проведены на территории, которая будет осваиваться, провести археологическую разведку, поиск памятников, в ходе которого выясняется, есть на территории будущего освоения археологические памятники или нет. Если памятников нет — всё отлично, соответствующие документы уходят в органы охраны объектов культурного наследия — в Омске это, например, Министерство культуры Омской области, и оно разрешает дальнейшие работы. Если же что-то нашли, тогда в силу вступают другие нормы, которые предписывают обеспечить сохранность археологического объекта, который был обнаружен. Его можно сохранить либо физически, то есть просто оставить это участок, не застраивать, не осваивать его, а можно провести археологические раскопки, сохранить археологический памятник в виде коллекции, которая получена и передана в музей, и научного отчёта о его раскопках.
— А потом уже строиться.
— А потом уже можно строить. И есть целая довольно-таки большая отрасль экономики в нашей стране, которая занимается этим. Количество людей, занятых в этой отрасти, ну не гигантское, но значительное. Есть специалисты раскопщики, есть специалисты съёмщики, топографы такие археологические. А есть вот просто такие компании, как наша, которые занимаются такими разведками и раскопками по их следам.
— Где вам интереснее работать?
— Да везде интересно! Всё зависит от конкретного настроения в конкретный период времени. Я люблю Омскую область, мне очень нравится здесь работать на раскопках, но я не могу сказать, что я не люблю тайгу. В тайге прошло моё «археологическое детство»: это Красноярка, на которой я вырос как археолог, это Усть-Ишимский район, это южная тайга. Я очень люблю леса. При этом очень хорошо помню, как впервые оказался в тундре, и тундра меня до сих пор манит, я каждый год должен туда съездить, посмотреть на эти озёра с тысячами птиц, покопать шурфы, находиться по этой тундре до боли в ногах...
— Вот так вот, да?!
— Нравится всё — и степь нравится тоже, нравится везде, везде красиво! Наша страна огромна и прекрасна!
— Как вы думаете, сегодня у археологии какой-то новый виток развития? Заметно ли это?
— Я бы не сказал, что у нас сейчас новый виток развития. В одной поре, наверное, находимся, к сожалению, и это связано с тем, что в нашей стране в постсоветское время появилась вот эта сфера экономики, о которой я только что говорил: у нас есть достаточно серьёзные частные компании, такие работы ведут государственные научно-исследовательские институты, и деньги в науку вроде как с этой стороны поступают. Мы ведём коммерческие работы, зарабатываем на них деньги, ну вот как мы: мы заработали — тратим их на раскопки в Горьковском районе. Но государственное финансирование каких-то фундаментальных исследований — ну, оно… Всегда учёные жалуются: его недостаточно. Какие-то проблемы, на которые можно было бы «зайти», которые можно было бы попробовать решить, остаются за сферой нашего внимания. Ну просто потому что там мой бюджет не позволяет мне, например, решить...
— А какие это проблемы?
— Ну в целом неплохо было бы всё-таки, например, подумать о том, как осваивалась территория нашей страны по эпохам: как, куда проникали человеческие коллективы, какая часть вперёд, какая часть после этого осваивалась. Попробовать построить карты движения Homo sapiens sapiens по территории Российской Федерации.
— То есть пока этого нет?
— В каком-то законченном виде, в виде справочников, карт, я не видел. Отдельные точечные исследования академических институтов — и то такие очень редки: тот же самый ранний железный век, саргатцы и не только саргатцы. Да, вот мы работаем в районе Новопокровки, получаем значимый научный результат, каждый год выходит две-три публикации в серьёзных научных журналах, но если бы количество коллективов, которые были бы заняты этой проблематикой, было на порядок больше, мы бы быстрее, интенсивнее изучали эту страницу нашей истории.
Мне интересно работать в районе Новопокровки, мы будем продолжать. В ближайшие несколько лет точно. Закончим этот научный проект, придумаем себе следующий и будем заниматься им. В рамках большой страны, в рамках Российской Федерации, конечно, хотелось бы большего снимания, большего финансирования. Возможно ли это, я не знаю, честно говоря...
— А как Омск смотрится на уровне других регионов по археологическим раскопкам?
— Знаете, к сожалению, не очень.
— Не очень?
— Да. Тут в целом можно очень долго говорить. Археологический Омск, его золотые годы — это 70-80-е годы, начало 90-х.
— Ах, всё-таки прошли они...
— Да. У нас достаточно большое количество так называемых листовиков — людей, которые имеют право на получение открытого листа: это разрешение на проведение археологических полевых исследований. Но учёных-археологов у нас не очень много. И их количество сокращается. Мы проводим научные раскопки на территории области: Сергей Филиппович Татауров копает в Таре, Михаил Андреевич Корусенко копает в Омске и не только в Омске, мы копаем в Горьковском районе, девушки, Таня Горбунова, Ира Шмидт, работают в Большереченском районе. Вот я четыре коллектива назвал, да — получается, что всё. Может быть, ещё Костя Тихомиров выезжает куда-то по-прежнему. Но это не очень много. В той же самой Новосибирской области работ на порядок выше. В Тюменской области работ на порядок выше.
— С чем это связано?
— В Новосибирске есть академический институт. В Тюмени тоже есть академический институт. У нас вот только филиал Новосибирского института; видимо, не так много денег в него попадает. Сокращается количество археологов. Археологи исчезают из вузов. Вот я остаюсь в вузе, мне интересно работать с детьми, чтобы попытаться их втащить в профессию, найти для себя сотрудников, потому что кадровая проблема стоит довольно остро, в том числе и в археологии. Вот я был студентом, в вузе работали Борис Александрович Коников, Евгений Михайлович Данченко, Светлана Викторовна Прищенко; Игорь Евгеньевич Скандаков захаживал, не только он, Владимир Борисович Яшин, в прошлом археолог, читал у нас Древний Восток, он тоже был листовиком. А сейчас вот Светлана Викторовна Прищенко, ну и я в педуниверситете...
— Негусто.
— Количество археологов в госуниверситете тоже сократилось. И получается, что воспитывать кадры в перспективе-то как будто особо и некому будет...
— Так или иначе всё в ваших руках. Ну, не всё, может быть, но многое.
— Но мы же не вечные. Количество археологов в Омской области, к сожалению, сократилось, и это не радужная перспектива.
— Я вам хочу пожелать, чтобы было побольше возможностей сохранить хотя бы тех, кто выпускается, внедрить их в омскую археологию.
— Мы делаем что можем. Я стараюсь заинтересовать людей, насколько это возможно. Ежегодно мы принимаем на базе нашего лагеря в Новопокровке школьников. К нам привозят школьников из города Омска. Есть такая небольшая социальная партнёрская программа у Сбербанка. Они берут школьников из города, из летних лагерей, на автобусах, с питанием, к нам их привозят, а мы им там проводим квест «Путешествие в страну мёртвых».
— Ну глаза-то загораются?
— Глаза загораются, есть ребятишки, которым интересно. Мы работаем со школьниками Горьковского района, тоже абсолютно бесплатно. Ребятишки приезжают, мы им рассказываем, показываем всё, что можем, пытаемся их заинтересовать. Им становится интересно. И да, дети идут, в том числе и на исторический факультет. Мы делаем, что можем. Невозможно же рассчитывать только вот на эти внешние ресурсы.
— Спасибо вам за то, что вы делаете, и за то, что вы пришли и поделились своей историей.
— Спасибо, что позвали.
Полную версию видеоподкаста можно посмотреть здесь.