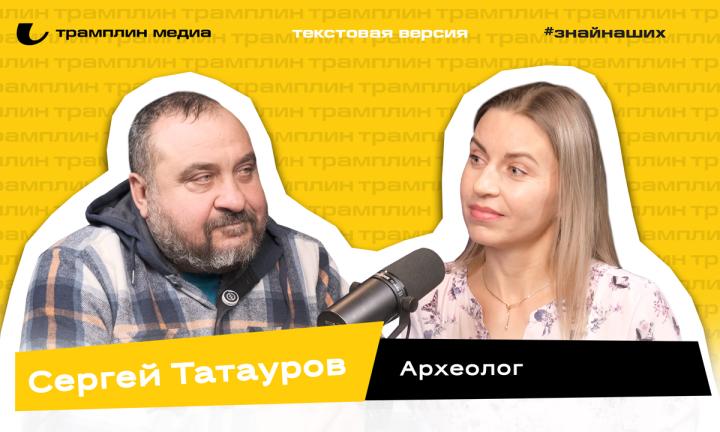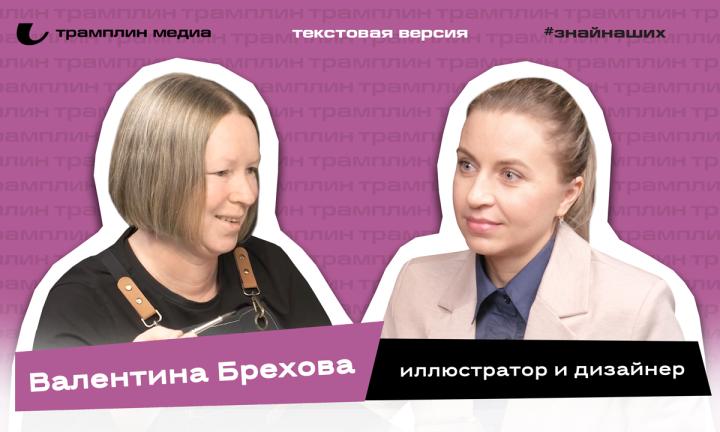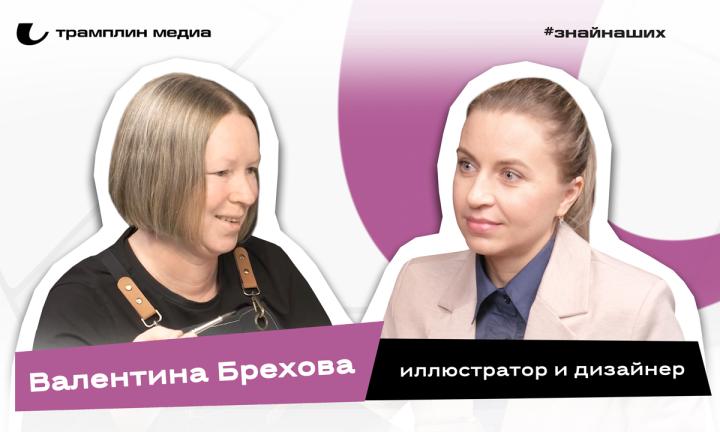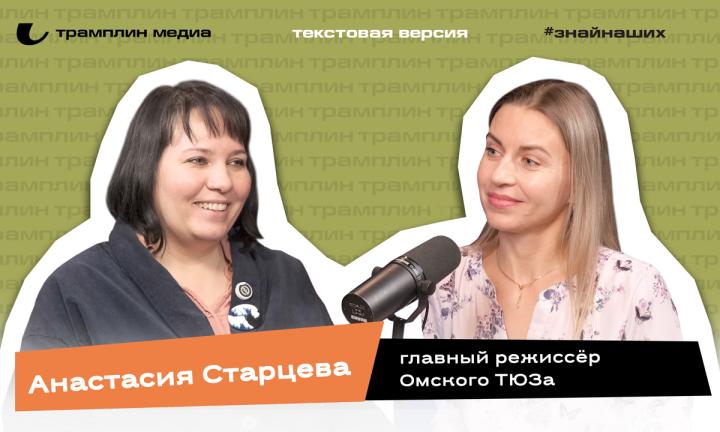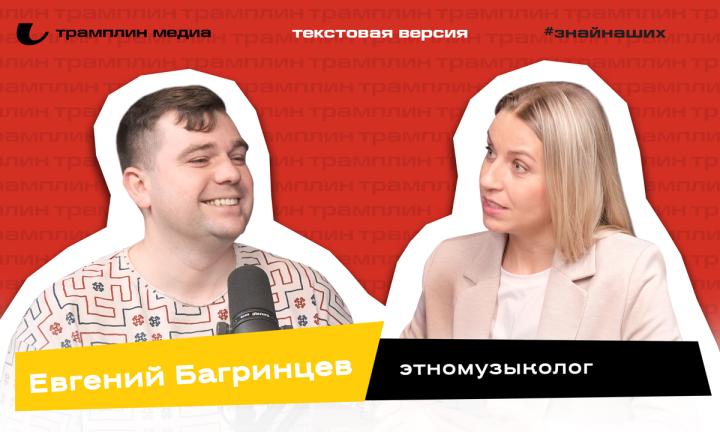Дата публикации: 4.10.2025
Для тех, кто любит почитать – текстовая версия подкаста «Знай наших!» с исследователем нейронаук и популяризатором Евгением Князевым.
— Здравствуйте! Это медиа «Трамплин» с подкастом «Знай наших!». Сегодня мы беседуем с Евгением Князевым, исследователем нейронаук и популяризатором. Да, Женя, правильно?
— Да, всё верно!
— Здравствуйте! Ну давайте начнём с того, почему люди неправильно понимают своё саморазвитие. В этом тоже вина мозга?
— Вообще концепция вины (оба смеются) — это тоже довольно интересное слово. Я бы не стал здесь уходить в то, кто виноват, потому что этот вопрос довольно бесполезный. Даже если мы определим, кто в этом виноват, то выяснится, что виноваты все по чуть-чуть, условно говоря.
— Понятно, да.
— Сейчас на самом деле очень популярна эта тема. Если знаете Роберта Сапольски...
— Нет, не знаю. Расскажите.
— Это в общем довольно популярный спикер, нейробиолог, действующий учёный. Он читал курсы по нейробиологии в Стэнфорде. Даже выпущены непосредственно его записи — всего этого курса. Довольно сложный такой, не самый базовый курс, но в то же самое время он, видимо, пошёл ради хайпа в историю про свободу воли. И он сейчас утверждает, что никакой свободы воли нет, аргументируя это иллюстрацией в духе: ну вот смотрите, я сгибаю палец. Это просто действие. Если у меня там будет курок, то это уже совсем другое действие. Но и того и у другого действия были какие-то предпосылки, было какое-то состояние мозга, которое к этому привело, какой-то гормональный фон и так далее. И мы таким образом приходим к тому, что там условно гаметы внутри материнского тела соприкасаются, вот в этом вся история. Он говорит о том, что вина — это абсолютно бесполезное понятие, нужно идти совсем по-другому. Но это тоже такая как бы редукционистская и радикальная позиция, которая по факту сейчас критикуется в научном сообществе, хотя спикер при этом действительно кажется суперавторитетным.
Я за свою, так скажем, карьеру, за свой трек обучения разочаровался в очень многих публичных спикерах, к сожалению. Потому что кажется, что это может быть каким-то условно культурным феноменом, что у тебя появляется какая-то тема и ты внутри неё работаешь, её продвигаешь дальше. А когда ты начинаешь пытаться какую-то нюансированную картинку создать, то она становится и менее популярной просто в силу сложности. Я думаю, что вы как журналист понимаете — виральный контент, как правило, простой. И в то же самое время нельзя — банально — чётко и просто объяснить, а мы же привыкли к этому. То есть школьное образование — это правильно/неправильно, получай пятёрку, двойку, тройку. Причём условно кола (единицы) нет в принципе, двойка — это очень плохо, тройка — значит, он чуть-чуть что-то сделал, четвёрка — обидно. Ставим пятёрки, условно говоря. И это тоже стало как бы элементом токсичной продуктивности в какой-то степени, потому что вас на протяжении сначала одиннадцати лет, потом ещё четырёх, если ещё дальше пойдёте — то большего количества времени, постоянно бесконечно оценивают. И ожидается, что как будто кто-то знает, как правильно. А вот работа над какими-то метанавыками (сейчас мы вернёмся к тому, почему саморазвитие неправильно воспринимается), понимание того, как учиться, как проверять информацию... Необъятная тема — мозг, это реально подтверждается фактами, потому что сейчас каждый день выходят десятки исследований. Ребята, которые ездят на конференции, говорят: пока ты просто пройдёшь от одного стенда, который вначале, до другого стенда, уже закончится конференция. Всё! А надо ещё сходить спикеров послушать. Поэтому количество исследований реально необъятное. И вот здесь я, наверное, увидел для себя какую-то миссию: в том смысле — зачем я занимаюсь популяризаторством? Потому что существует огромное количество исследований. Самим учёным делать это некогда, и, более того, не у всех это хорошо получается. Для того чтобы популяризировать, нужны же не только умения работы в науке, для этого нужен какой-то публичный образ, умение говорить, ещё что-то такое. Есть пример Анохина — это академик, один из самых известных нейробиологов в научном сообществе. У него тоже есть интересные тезисы, у него своя определённая стезя, на которой он работает, но... разговаривает он тяжеловато: медленно, с какими-то заиканиями.
— Не оратор?
— Да. Безусловно, он набирает аудиторию, всё равно пользуется уважением, но это не миллионы просмотров.
— Просто за счёт интереса темы.
— Да. А при этом у него есть подруга, так скажем. У неё совсем другой путь, но она оратор. И она набирает миллионы просмотров. Но при этом к качеству контента там больше вопросов.
— Сколько просмотров набираете вы?
— Пока вообще нисколько не набираю. Я на это даже не обращаю внимания, потому что я буквально в самом начале пути. Я, по сути, в том или ином виде начал свой трек обучения лет десять назад. А вот какой-то активной деятельностью я начал заниматься буквально этим летом, наверное. То есть завёл Телеграм-канал, начал как-то выступать и так далее. Просто всё вот так быстро получилось, что мы с вами уже здесь.
— Грубо говоря, правильно ли я понимаю, вы такой посредник между научным сообществом и простыми людьми, которых нужно, так сказать, образовывать?
— Да, хочется верить, что я уже заслужил это звание. Хотя на самом деле каждый раз, когда у меня спрашивают, просят что-то про себя написать, я начинаю думать — а достоин ли я так говорить? Но, с другой стороны, а какой выбор — всё равно людям нужны какие-то простые те самые эвристики, по которым они определяют, а что вообще будет происходить. Вот приходят ребята на моё выступление, например, что они, как правило, могут прочитать до этого момента? Это какая-то афиша, картиночка, название лекции, что-то про спикера, и, дай бог, если они там пару абзацев дочитают, о чём будет сама лекция. И то не факт, потому что вполне вероятно, что к ним кто-то придёт и скажет: вот смотри, какая-то прикольная тема. И всё, на этом всё закончится. Очень много информации, мы не успеваем её всю обрабатывать. Это нормальный процесс.
— Давайте вернёмся к нашему вопросу.
— Да, про саморазвитие. Во-первых, у нас глобально устарели знания о мозге. Вот такая неприятная история. Сейчас 2025 год, и многие мифы, которые до сих пор у нас в массовом сознании, в том числе про те же 10 процентов мозга, ещё что-то в таком духе, часто выстроены на том, что мы выяснили в 50-х годах прошлого века, в 60-х, 70-х, 80-х. У нас население до сих пор верит в то, что условный рефлекс Павлова — это стройная, полная фундаментальная теория, которая до сих пор актуальна. Хотя с тех пор прошло значительное количество времени. Она, безусловно, важна, и я ни в коем случае сейчас не хочу её обесценить…
— О чём это говорит — о каких-то пробелах в исследованиях?
— Это говорит скорее о том, что, во-первых, человеческое общество в принципе инерционно, и у нас сейчас есть тренд в обратную сторону: история про традиционные ценности, про все эти вещи, а это в каком-то смысле ну не совсем вяжется с прогрессом. Во-вторых, научное сообщество тоже довольно консервативно само по себе, и там часто сложно пройти новым идеям. То есть это всё начиналось с того, что человека, который предлагал дезинфицировать приборы, посадили в конечном счёте в психушку, а сейчас отбирают гранты, условно, за нейрогенез. Вот когда Альтман усомнился в том, что идея о том, что нейрогенеза у человека нет, то есть появления непосредственно новых нейронов, то у него в конечном счёте эти гранты отобрали. И, условно, не то чтобы чудесным образом, но с боем ему пришлось продвигать эту идею. И до сих пор о ней спорят, регулярно пересматривают. А у нас в то же самое время довольно серьёзный кризис в образовании. Учителей не хватает, молодые не сильно хотят туда идти. Да, там много грантов, условно бюджетных мест на какие-то педагогические профессии. Но надо же, чтобы человек сначала отучился, потом пошёл поработал и после первого года не сбежал. И учительство — это очень сложная профессия, безусловно. Там много и какой-то бюрократической работы — это то, о чём я сегодня буду говорить. О том, что это вызывает выгорание в том числе и у медицинских работников, и у учителей. И сама работа тоже очень тяжёлая — пойти к детям, завлечь их внимание.
— Тяжела, но очень нужна.
— Очень нужная. И вот у нас получается такая история, что сейчас удерживают преподавателей уже пожилых; у них соответственно было какое-то своё образование, они читают один и тот же курс долгое время, а есть определённые психологические процессы, которые связаны с большей консервативностью у людей старшего возраста. Всё это в конечном счёте приводит к устареванию знаний, плюс сама программа как будто тоже нуждается в том, чтобы её тоже пересмотрели.
— То есть это всё тормозит саморазвитие человека?
— Сейчас мы подойдём к этому. Это такая очень длинная подводка. В общем, все эти кризисы, друг с другом совмещаясь, дают нам устаревшие знания, и плюс ещё наш мир-то не очень понятный. То есть если вы ходите, то ваш мозг постоянно получает обратную связь: шагнули вы правильно или неправильно, упали/не упали. А если мы говорим о каких-то сложных вещах типа веры, о том, как работает мозг, как мы ощущаем свои эмоции и т. д., нам же не на что опереться, здесь нет вот этой обратной связи. Как бы вы правильно почувствовали сейчас — или вы боитесь, или вы тревожитесь, или вы возбуждены, или ещё что-то другое произошло. И это очень большой вопрос.
— Особенно в нынешнее время.
— Да. В принципе, наша мозг — такая машинка по подсчёту вероятностей. Это такая большая рамка его понимания, он постоянно моделирует наше будущее, моделирует наше положение в пространстве. И более того, есть даже очень смелые предположения о том, что он реально моделирует будущее в том смысле, что мы видим то, что нам мозг моделирует, до того как это произойдёт. Есть опыты, когда точечка пробегает мимо определённой границы на экране, человеку так на самом деле кажется, а фактически она останавливается, но мозг не успевает это обработать, и так как он уже создал определённую траекторию, по которой она будет двигаться, вам будет казаться, что она действительно двинулась: вот до такого уровня, это какие-то миллисекунды, но это всё равно большая, сложная тема.
— Это программирование ситуации, которая возможна?
— Да, мозг просто изучает все факторы, нас окружающие. Я думаю, что не секрет для многих, что наш глаз видит далеко не всё вот это пространство (руками обводит круг), которое вокруг нас, он видит малую его часть. Соответственно всё остальное — это, по сути, дорисованная картинка. Плюс у нас есть слепые пятна в глазах, он их тоже «закрывает», дорисовывает, мы их не видим, пока специально не проведём определённые тесты. И всё это люди не знают, но при этом они бросаются в какие-то практики и ожидают какого-то эффекта. А здесь ещё вступает история про плацебо-эффект, который тоже довольно значим: он даёт до половины ощущения. Особенно от каких-то вещей, связанных именно с эмоциями и настроениями, потому что наши эмоции и настроения — это же интерпретация, причём язык — язык несовершенный, как всё, что создано человеком. Да и, в принципе, в природе тоже совершенство не сильно найдёте. Можно красивое что-то найти, но совершенство — вряд ли. Это кто-то, Докинз, по-моему, говорил, если не ошибаюсь, что когда он видит что-то невероятно красивое, он идёт, поднимает камень, чтобы увидеть там этих насекомых — как бы вспомнить о том, что реальность — это всё-таки нюансы и баланс. И это приводит к тому, что мы за кадром обсуждали, — к какому-то повальному инфоцыганству (извините, представители цыган!), к тому, что просто маркетинг подстраивается и снова играет на наших слабостях, на наших уязвимостях: истории про мышление миллионера, про какие-то там заговоры, про то, что нужно пить ноотропы для того, чтобы твой мозг стал лучше работать. Всё это наука уже так или иначе изучала, проверяла. И тот же самый гребенчатый ежовик, который стал в последнее время популярным, она тоже изучила и проверила. И она не нашла доказательств его эффективности. Люди тратят деньги, тратят время, ссорятся с другими людьми ради этого...
— А по сути, это всё миф.
— По сути, очень много мифов, по моим ощущениям. Причём что интересно. Недавно наткнулся на статью в Nature от наших российских учёных, которые изучали как раз нейромифы в головах у преподавателей. И они пришли к неутешительным выводам.
— Что там наизучали?
— Что больше половины преподавателей те или иные мифы поддерживают. Про аудиалов и визуалов, например. Что есть люди, которые чётко делятся: лучше картинка, лучше звук, ещё там что-то такое.
— На самом деле это неправда?
— Нет. Есть определённые предрасположенности, но обучение сильно сложнее, чем сводить его к тому, что вам надо картинки показывать и текст писать или ещё что-то такое. Это всё может давать какие-то небольшие эффекты. И, безусловно, есть способы сделать информацию более интересной, более доступной. Но у них всегда есть своя цена. Я часто на своих лекциях говорю о том, что, условно, сейчас обсудим ограничение лекции. Всегда стоит пункт — упрощение. Потому что, опять же, мы за кадром обсуждали, мало кто готов прийти на научно-популярную лекцию и слушать про молекулярные механизмы памяти, например. Это звучит сложно и непонятно, какое у этого прикладное значение, лучше пойти посмотреть рилсы, где тебе расскажут десять тысяч миллионов лайфхаков, половина из которых будет мифологической, а то и больше. Но зато… вдруг сработает. Потому что цель человека не столько в том, чтобы развиться. Мы же с вами меряем по большей части за счёт нашего эмоционального состояния. То есть если нам внутри хорошо, значит, всё в порядке, если внутри нехорошо — значит, не в порядке.
Цена знания — она тоже есть. Об этом и классики писали, и вот сегодня буду ссылаться на книжку «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза, может, вы читали, за которую он сначала «Хьюго» получил, потом премию «Небьюла». Просто я люблю научную фантастику. И там была история про человека, который был сначала не очень умным, мягко говоря, то есть с проблемами в развитии, потом с помощью определённых опытов он стал значительно умнее и стал видеть многие вещи — несправедливости и т. д. Ну, более классическое произведение, наверное, «Мартин Иден». Тоже о нём буду говорить сегодня. Герой стремился к цели, более того, это породило целый синдром Мартина Идена в советских учебниках. Когда он её достиг, он в ней разочаровался, условно говоря. Там, конечно, много разных способов в интерпретации всего этого. Психологи скажут, у него не было какой-то связи с людьми, он выбрал себе в пару холодную женщину, ещё что-то там такое. Но в то же самое время странно было бы отрицать, что он действительно разочаровался в устройстве того общества, которое он ранее идеализировал. И это то, что с нами происходило с 2022 года, когда мы увидели, насколько европейские демократии, насколько ситуация в США не такие замечательные и прекрасные, как нам казалось, возможно, когда-то. Потому что мы любим упрощать. Я это замечал, когда ещё в бизнесе занимался какими-то серьёзными методологиями, — что часто случается следующее: ходят умные дядьки, делают какую-то сложную штуку; пока она доходит до практиков, до тех, кто её должен применять, она становится вот такусенькой (показывает пальцами мизерный размер). Они там что-то пытаются делать, часто неправильно, потому что пока им разные посредники (проблема посредничества!) всё это объясняют… И вообще, что мы с вами вообще друг друга понимаем, это же в какой-то степени чудо! Потому что язык не то чтобы двойственный, но он же изначально как набор символов был искусственным образом привязан к объектам в реальности. И чем сложнее и абстрактнее эти объекты, тем выше вероятность того, что наши интерпретации будут по-разному работать. Здесь моя любимая история про измены. То, насколько люди по-разному определяют измену, это вообще просто фантастика: от случайного взгляда и улыбки до…
— ...непосредственно измены.
— Да, до непосредственно того, что все (±) считают изменой. Но можно же и дальше пойти. Потому что моногамия — это же не единственный способ, который человечество видело и видит до сих пор в том, как всё будет работать. И более того, ещё совсем-совсем недавно никакой истории о романтической любви для создания пары как будто бы и не было, потому что решали родители, решало сообщество. Больше того, ссылаясь на сегодняшнее выступление, это, пожалуй, сразу во многие стороны, в том числе и про саморазвитие. Есть такое понятие, как weird. По-английски это «странный», но фактически это аббревиатура, которая говорит, что есть западные, образованные, индивидуалистские, демократические и богатые общества, к которым в какой-то степени относится и Россия. Потому что всё-таки, несмотря на вопросы к тому уровню жизни, который есть у многих людей в нашей стране, мы довольно близко к Западу, условно говоря, и к тому, что этот термин подразумевает. Он, безусловно, был нюансирован: примерно в 2010 году вышел манифест с работой Джозефа Хенрика, которая называлась «Самые странные люди в мире». Он тогда говорил, что вообще случилось ужасное с точки зрения науки, что мы изучали всё это время условно европейских и американских студентов, а это тоже стандартная практика: тебе дают курс — и ты пошёл над ним экспериментировать. Там всякие стэнфордские эксперименты, вот эта знаменитая история про то, как преподаватель сделал одних студентов заложниками, других — тюремщиками. Но это абсолютно не репрезентативная выборка, потому что наша культура — специфическая. Российская культура ещё более специфическая, потому что она сильно отличается от католической культуры внутри Европы в силу православия и всяких других аспектов. И в итоге те данные, которые мы получили на психологии людей западных обществ, далеко не всегда работают с обществами коллективистскими с другими ценностями. И тот же самый момент подтверждает идею о том, что средовое влияние, влияние воспитания, влияние культуры, в которой вы выросли, очень много для вас значат. И часто люди не могут разделить: это возвращаясь к тому, почему саморазвитие идёт не в ту сторону. Часто люди не могут отделить культурный феномен от идеологического.
— Сильно-то опираться на эти знания не стоит, я бы сказала.
— Сильно опираться на эти знания не стоит, но это вообще другая большая проблема, о которой, кстати, чаще всего популяризаторы не говорят, но наука столкнулась в нулевых годах и до сих пор сталкивается с кризисом воспроизводимости. Что это значит? Что, вообще говоря, научный метод прогрессирует от года к году и изменяется. Сейчас он, пожалуй, дошёл до максимума, но этот максимум стоит очень дорого. Что я имею в виду? Во-первых, до сих пор есть публикационный сдвиг. Это означает, что так как наука — это социальный институт, всех больше всего интересовали результаты, а не их отсутствие, хотя на самом деле отсутствие результатов — это тоже результат. Но в итоге было множество кейсов, когда учёные работали со своими данными неэтично, когда они их буквально выдумывали. И история про то, что мы проведём девять экспериментов, а опубликуем пять с нужным результатом, вообще в какой-то момент становится чуть ли не стандартом отрасли. Опять же, тут не хочется воевать в другую сторону и прямо так говорить, что наука совсем ничего не понимает и всё такое. Это не так. Есть серьёзные журналы, есть серьёзные редколлегии, которые тщательно всё это дело проверяют, у которых много денег, и они могут обеспечивать хорошее качество. Но при этом относиться к любому тезису с позиции «О, про это есть статья в каком-то там журнале!» — это тоже стрельба себе в ногу и вероятность того, что вы поймаете какой-то нейромиф. Потому что можно всё что угодно найти в научных статьях, они буквально продают сейчас места для публикации за деньги.
— (Ведущая выражает эмоции.)
— Но это, конечно, не про Nature, не про какие-то серьёзные издания. Но такая практика есть.
— Если резюмировать вот всё сказанное одним предложением?
— Начинать саморазвитие надо с того, чтоб разобраться, как человек устроен. И тогда вы поймёте, какие практики для вас несут реальную пользу, а какие практики несут какую-то воображаемую пользу. Вы поймёте, как это проверять — самое главное — и как это уже проверяется. Потому что прочитать научную работу и правильно её интерпретировать — это тоже большая, серьёзная работа, за которую, кстати, часто учёные критикуют популяризаторов: типа, куда вы лезете!
— Есть такая борьба, да! (оба улыбаются)
— Абсолютно точно! Но она справедливая, потому что сесть и разобраться в том, какая выборка является репрезентативной, проспективные исследования, РКИ — вот все эти слова не то чтобы людям знакомы, как правило, хотя это фундамент науки, с которой мы сейчас с вами работаем и которой мы столько времени уделяем, когда читаем какие-то научно-популярные статьи про психологию, про мозг и т. д. Но я понимаю, что пока что основной инструмент у меня — это предупреждать людей о том, что да, мы что-то упрощаем. (Обращаясь к аудитории): И мы, кстати, что-то упрощаем сегодня.
— Ещё одна тема — что человеку нужно принять о себе и понять?
— На самом деле это то, о чём я уже говорил. Что наука в нас — это какая-то культурная история. Мне нравится фраза. Я, честно говоря, не знаю, кто сказал её первым, но фраза такая: «Когда ваше мнение стало вашим?» У этого, очевидно, был какой-то период, потому что до трёх лет ребёнок себя плохо осознаёт как личность, — понятно, что это очень приблизительные временные периоды. Потом какое-то время он учится разговаривать, причём чётко знаем по примерам детей-маугли — детей с несчастной судьбой, которые были почему-то либо покинуты родителями физически и оставлены условно в дикой природе, либо чаще заперты в комнате и воспитанием которых не занимались, — что они не могут потом просто выучить язык, если проходит определённое «окно».
— Это факт, да.
— А насколько бы мы с вами воспринимали человека, который не может разговаривать как человек? Скорее всего, вряд ли бы он смог вписаться в какой-то социум, выстроить карьеру.
— Как-то лояльнее уже стало…
— Ну, я, честно, не знаю. Лояльнее с какой позиции — что он может занять какую-то низшую должность в магазине или возить нас на такси? Возможно. Но вряд ли он станет генеральным директором какой-то компании и венчурным инвестором.
— Слушайте, и говорящие не все станут генеральными директорами!
— И говорящие не все станут, безусловно. Но я скорее с позиции того, что у него возможности изначально ограничены.
— Однозначно.
— И, более того, как он будет учиться? У нас всё на языке.
— Есть адаптивные программы.
— Если мы говорим про немых, про слепоглухих, про всякие такие истории — безусловно, да. Но это всё равно требует понимания языка на каком-то уровне. Просто это будет шрифт Брайля, а не напечатанный. А я говорю про ситуацию, когда человек просто не может овладеть ни одним языком, он всю жизнь разговаривает примерно как пятилетка. Ну, в магазине, наверно, он всё-таки сможет работать, но чего-то более серьёзного ему не приходится ожидать. И здесь это один большой «столб» и довольно иллюстративный пример того, как на нас влияет культура. Далее история про гипотезу Сепира— Уорфа. Вероятно, в такой формулировке вы не слышали, но какие-то отдалённые «штуки» должны были долететь — про то, что англоязычные сообщества, например, хуже определяют оттенки голубого, чем русскоязычные.
— Это как в крови, в генах?
— Нет, это не в крови, не в генах, это именно на уровне культуры, потому что у них чаще это всё называется blue. Более того, есть языки, в которых зелёный и синий вообще не отделяются друг от друга. И в итоге, когда задаются вопросы, то они действительно уже определяют эти цвета, могут называть зелёный синим, могут синий называть зелёным.
— Потому что нет такого разнообразия?
— Там нет подходящего слова, у них это всё одно. Более того, есть примеры австралийских популяций, которые, например, не используют при ориентации себя как центр оси координат. То есть они говорят об относительных позициях, например: этот стакан севернее меня (показывая на стакан кофе рядом с собой) или ещё что-то такое. Даже не севернее меня, вот видите, я уже настолько прозападный, так сказать, что всё равно про себя говорю. Просто они говорят: эта кружка на северо-западе. В общем, для нас это очень сложно — даже представить такое. Очень долгое время главенствовала идея о том, что язык суперсильно всё определяет. Сейчас тренд на самом деле немножко в обратную сторону — это про генетику и про её влияние. Её стали переосмысливать. И если раньше говорили про то, что везде 50/50: среда/генетика, то сейчас, во-первых, добавилась ещё эпигенетика — это вопрос про то, что у вас есть набор генов, но далеко не все из них активируются, и большая часть ДНК, вашего набора генов на самом деле мусорная...
— ...либо в таком спящем режиме.
— И в спящем режиме во многом тоже, но это просто пространство для экспериментов в случае эволюции, потому что если у тебя значительная часть данных мусорная и не используется, то изменять её не так страшно. Получается, что это такой как бы и буфер, и какой-то спящий режим, потому что может произойти определённая мутация — это просто, опять же, вопрос очень долгого времени. Идея в том, что сейчас это стали сильнее рассматривать, и про это есть тоже интересная история. Абсолютно не забавная история, потому что она про Вторую мировую и про голод. И там, насколько я помню, сейчас бы не соврать, про третий триместр беременности. Когда был голод в Голландии, из-за фашистского наступления, дети, зачатые и рождённые, находящиеся в этом периоде, в третьем триместре, когда вокруг голод, дальше более склонны к ожирению, к не совсем здоровому пищевому поведению. И это связывали с тем, что есть определённые метки того, как среда влияет на этапе, пока мы находимся у мамы в животе.
— Однозначно…
— Но при этом как бы классическая музыка не помогает, а голод — да. Голод — важный предиктор выживаемости, а классическая музыка как-то вот не особенно хорошо работает. Я вам скину десять работ…
— ...которые доказали?
— Да, которые покажут: вот смотрите, мы пытались измерить — не получилось, ничего не было показано. Опять же, это, конечно, никогда не какая-то радикальная позиция, потому что наука тем и отличается, что она всегда открыта к критике и к каким-то новым гипотезам. Иначе бы она просто остановилась. Но эта позиция довольно устойчивая. То есть рано или поздно что-то приходит к тому, например, что желудок и кишечная система занимаются перевариванием пищи, и мы с вами в этом не сомневаемся. Но мозг просто ещё на таком уровне развития, как физика примерно в начале своего пути. Хотя наука уже сильно иначе выглядит: совсем другие институты, другие ресурсы и так далее. Но когда мы говорим про науку, она чем финансируется? Она финансируется, как правило, какими-то грантами, часто государственными, иногда коммерческими. Если коммерческими, там вообще часто всё грустно, потому что если вдруг есть какая-то аффилиация, то есть взаимосвязь, то сразу исследованиям очень сложно доверять. Это ещё на фоне всего кризиса, который наука переживает в целом. Если это государственные гранты, то часто государство заинтересовано не столько в какой-то фундаментальной науке, чтобы люди там сидели и тыкали в улиточек три года, а в том, чтобы они дали какой-то прикладной эффект. Вот у меня ребята, которые занимаются наукой, которые выбивают эти самые гранты, говорят: ну да, приходится упаковывать свои работы в определённую подачу, чтобы показать — да, это нужная штука, а мы не просто так здесь деньги тратим. Со стороны государства это логично. А в итоге фундаментальная наука испытывает нехватку бюджета из-за этого.
— Увы, да. Вы, как уже сказали, работаете и живёте в Омске и в Казахстане.
— Я родился в Казахстане, а сейчас я живу и работаю в Омске. Просто вопрос в деятельности, потому что если мы говорим о том, с кем я работаю, то это и международные компании в том числе.
— Вот и хотелось бы поговорить о том, кем вы работаете, то есть для кого вы более полезны в плане вот такого популяризаторства.
— Всё зависит от деятельности. Если мы говорим про популяризаторство, то это про людей, которые хотят узнавать реальную ситуацию в науке, наиболее нюансированную картинку, где не будет таких простых ярлычков. Если говорить о моей коммерческой деятельности, то я там выступаю не столько как популяризатор, я там занимаюсь маркетингом на уровне стратегии и помогаю компаниям разобраться с тем, как работать с людьми, чтобы для этих людей стать популярными. Но в целом это по смыслу очень сильно пересекается, потому что надо понимать, какие механизмы поведения и мышления человека стоят за теми феноменами, которые мы с вами видим.
— Есть конкретные примеры, истории?
— Про работу в целом?
— Да, с бизнес-компаниями, например.
— Есть, конечно, но они не то чтобы сильно интересные. Потому что там вот эта идея, о которой я говорил, стоит по большей части на эвристиках. Вам нужно заполнить эвристики, которые человек использует для оценки вашей компании, если мы говорим о B2B-маркетинге, — бизнесу нужно продать себя другому бизнесу: заполнить эти эвристики, произвести определённое впечатление. И так как люди часто глубоко не готовы погружаться, потому что — феномен выгорания, тихого увольнения, вообще вопрос компетенции людей, которые стоят на своих местах, они не всегда совпадают и не всегда даже сильно хочется с этим всем разбираться. Многие, наоборот, впали в цинизм и отрицают эти эвристики, условно говоря. Это вообще в целом происходит. Здесь вопрос скорее того, какой у человека был жизненный опыт перед этим. Потому что если он взял, условно, компанию — лидера рынка, у которой было куча регалий, каких-то наград, премий, рейтингов, ещё чего-то такого, то там дальше внутри на самом деле, во-первых, выбирается команда под него, и она не всегда будет та самая, которая получила все эти рейтинги и медали, условно говоря. А во-вторых, она может банально налажать. И соответственно человек после этого такой: всё, я этому не верю! И эвристики подобного рода перестают работать. Но начинают работать другие эвристики, потому что свято место пусто не бывает, нам всё ещё нужен способ быстро принимать решения. Как Канеман когда-то в очень простой своей дихотомии описывал систему 1 и систему 2. Система 1 — это быстрое мышление, как раз по эвристикам, которыми мы пользуемся дольше всего. Система 2 — он её связывал с условно рациональным мышлением, хотя это тоже очень сильное упрощение, ибо эмоции всегда вовлечены в принятие решения. Система 2 — это вот про рациональное мышление, про вычисление, про то, чтобы сравнивать что-то, принимать какие-то взвешенные решения. И она, как правило, гораздо более трудоёмкая. Я думаю, в своей жизни вы тоже это замечали. А система 1 — это быстро, просто, она связана с интуицией в том числе, с каким-то ощущением нутром и так далее.
— Совмещать-то можно?
— В этом и суть, что на самом деле системы 2 в чистом виде не существует. Есть пример пациента одного известного нейробиолога Антонио Дамасио. Он его назвал Эллиот. У него была повреждена орбитофронтальная кора, которая часто связывается в принятием решения в целом, но они при наблюдении, при общении с ним пришли к выводу, что у него проблемы именно в эмоциональном подкреплении. К чему это приводило? К тому, что он два часа выбирал, где поесть. Он садился и начинал выписывать — плюсы/минусы, плюсы/минусы… А потом не мог выбрать, потому что слишком сложно. Если вы будете два часа решать, идти в KFC или во «Вкусно и точку», условно говоря, то что от вашей жизни останется в итоге?!
— Волевые качества работают.
— Это не воля. Это именно эмоциональные решения. Он носки выбирал тоже час. Даже тут дело не в воле. Воля — тоже уже немножко токсичный концепт. Потому что всё чаще сталкиваются с тем, что позиция, что у тебя слишком слабая сила воли, довольно сомнительна, потому что у нас нет, во-первых, прямого ресурса влияния на эту силу воли. Есть определённый эффект, что чем чаще ты превозмогаешь, тем легче будет превозмогать в дальнейшем. Но при этом есть и другие замечательные эффекты, связанные в том числе с нейроотличиями, которые сейчас в популярной среде часто встречаются, — спектр аутистический, особенно так называемые (хотя вообще это не очень любят в среде) высокофункциональные аутисты, а-ля Шелдон Купер. Появляется какая-то мифология о том, что они все гении, хотя спектр настолько большой, что фактически мы все на нём находимся так или иначе. Потому что подход к диагностике в духе «тут есть, тут нет» — это, конечно, вопрос клинической нормы и это стандарт, который нам необходим, чтобы понимать, мы это называем патологией или не называем. Но если мы говорим о субклинических симптомах, то... Вот, например, у меня СДВГ, официальный, с психиатром, всё такое. Как он ставится фактически? Вы с психиатром общаетесь, и по самоотчёту он ищет определённые критерии — ну куда это годится на самом деле!
— В какой бы протокольчик…
— Ни одного анализа, ни одного способа как-то физически установить нет! То есть, в принципе, я могу создать правильную историю своей жизни, об этом рассказать и получить для себя рецепт на какие-то препараты, которые без рецепта не продаются. Но в России эта штука не самая выгодная, так скажем, потому что вам, скорее всего, выпишут какой-нибудь атомоксетин, от которого особого кайфа вы не словите, так скажем. А вот в США, например, долгое время выписывали аддералл. Аддералл — это действующее вещество, схожее с амфетаминами.
— Грубо говоря, можно сыграть на приёме доктора и…
— Да, вполне можно сыграть.
— И ты получил свою порцию.
— Ну от армии так и откашивают такое количество времени уже! Можно и здесь вполне с этим справиться. Более того, далеко не все психиатры (опять же, не хочется всех равнять) как-то тщательно стараются, проверяют. У меня был случай, когда мне выписали антидепрессанты на первом же приёме. Мне было плохо, безусловно, на тот момент, но мне кажется, это не совсем правильная позиция, когда ты… Когда настолько низкий уровень диагностики, есть высокий риск их выписать не тому человеку. Тем более что, во-первых, до сих пор есть спор в сообществе о том, насколько они обеспечены плацебо-эффектом, потому что когда речь заходит про наши эмоции, а мы уже говорили о том, что это просто интерпретация наших внутренних ощущений, и ещё через несовершенный язык. Причём есть, кстати, работы, которые показывают, что можно научиться свои эмоции лучше понимать. Ты ищешь другие названия, пытаешься их отделить друг от друга, и вроде как становится лучше именно по качеству своей собственной интерпретации. Ну, это в том числе про связь с телом и так далее.
— Очень интересная и действительно необъятная тема.
— Безусловно.
— Хочу поблагодарить за то, что вы пришли и поделились своими знаниями. Спасибо!
— Хорошо. До свидания!
Полную версию видеоподкаста можно посмотреть здесь.