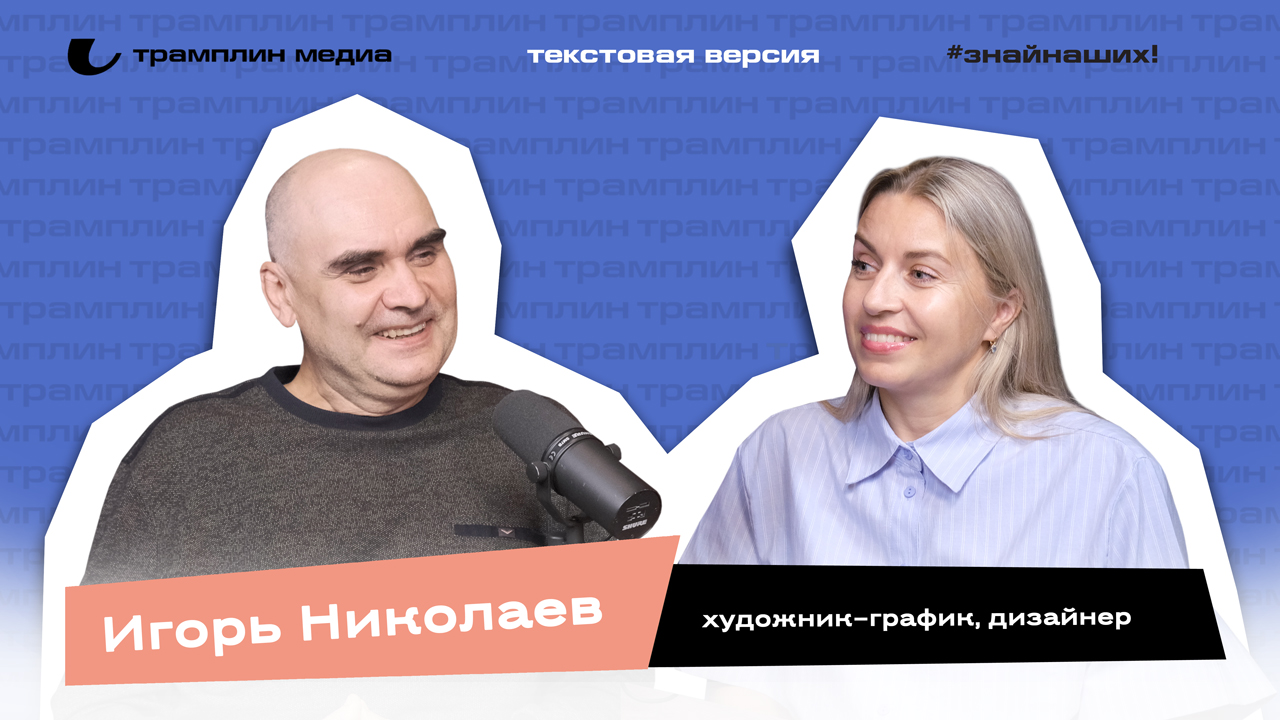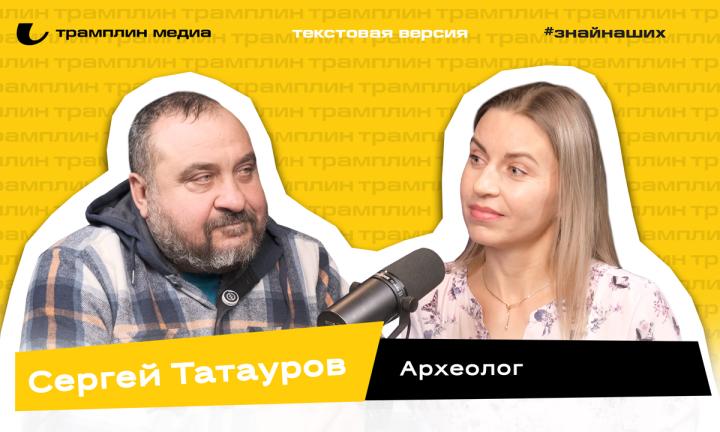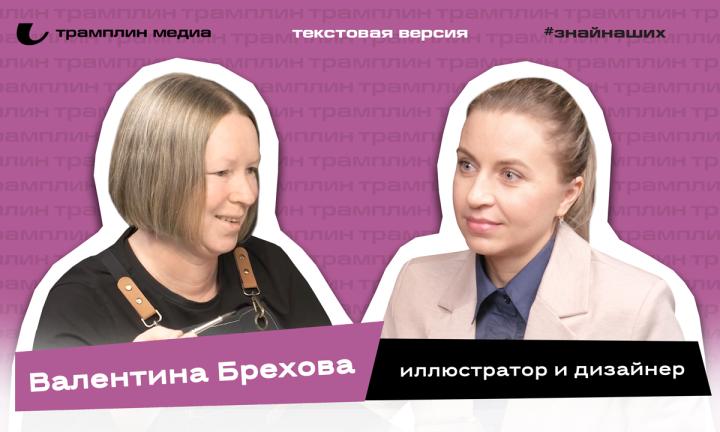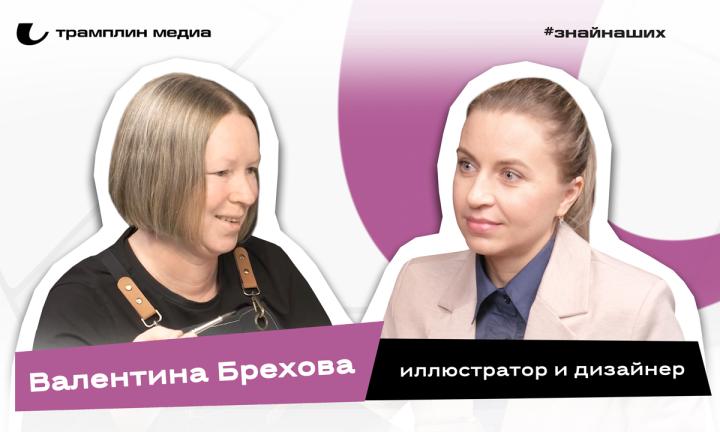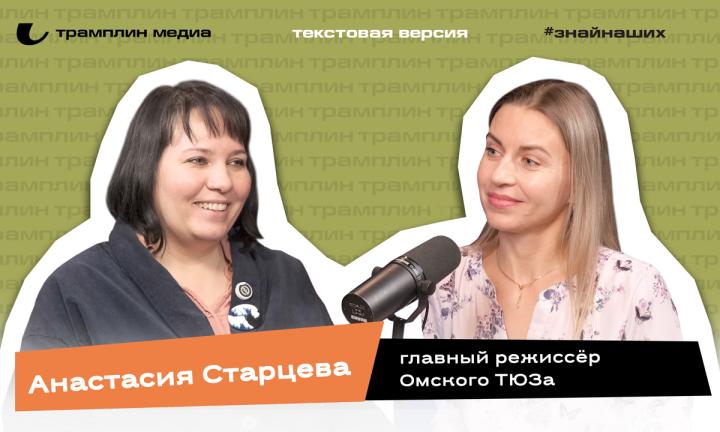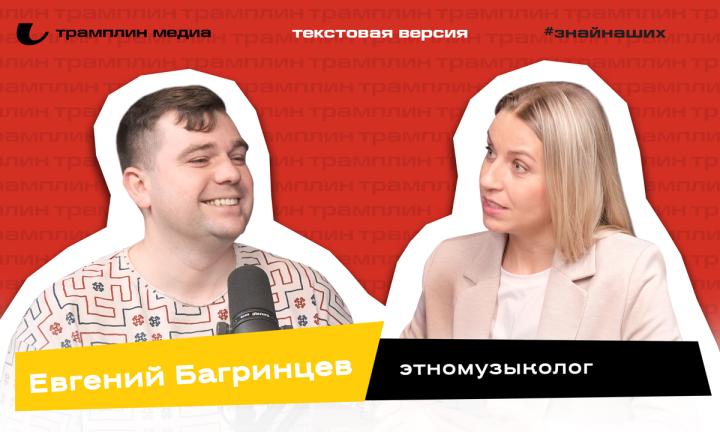Дата публикации: 23.08.2025
Для тех, кто любит читать, текстовая версия подкаста «Знай наших!» с Игорем Николаевым, художником-графиком, дизайнером, членом Союза художников России.
— Игорь Анатольевич, здравствуйте!
— Здравствуйте!
— Сейчас в музее «Искусство Омска» работает выставка, она открылась в июле и посвящена теме «Город героев». Вы один из участников этой выставки. Я знаю, что вы представляете одну из картин — Арсений Горохов, изобретатель первого компьютера, тогда ещё ЭВМ. Почему вы выбрали именно Арсения Горохова героем, как пришла вообще эта мысль?
— «Город героев» — так называется выставка. Наш город славен героями не только Великой Отечественной войны, но есть герои и в области науки, и техники, и разных искусств. Для меня Арсений Горохов — это такой герой, не признанный, что ли. Потому что все знают Стива Джобса с его первым компьютером, но мало кто знает, по крайней мере за рубежом, Арсения Горохова. Да и у нас в Омске он не так широко известен, поэтому на выставке он представлен не случайно. Он меня заинтересовал, потому что компьютер сейчас является такой частью нашей жизни, мы с ним не расстаёмся. И телефон, и персональный компьютер есть у всех. А поскольку он влияет на нашу жизнь, то и Арсений Горохов к этому причастен. Это наша жизнь, часть нас.
— Вы таким образом решили открыть, так сказать, Арсения Горохова омичам и не только.
— Я решил ему немножко помочь, потому что в жизни ему не так здорово везло. И хочется, чтобы герои не оставались неизвестными.
— Забытыми.
— Да, забытыми, непризнанными. А он именно такой герой, которого при жизни всё-таки не признали. И в эпоху, когда он жил, в эпоху такой советской зашоренности, когда всё должно было быть регламентировано, все должны были думать одинаково, ему сложно было открыть что-то новое. Хотя были и свободы — он мог получать образование, в то время всё это было более доступно. И, несмотря на такую советскую идеологию, он сумел всё-таки найти какие-то интересные решения технических проблем, которые возникали.
— Такой возрождённый герой нашего времени.
— Ну, я бы сказал, что он такой Леонардо да Винчи. Потому что если бы Леонардо да Винчи в XVI веке все те изобретения, которые он записывал в тетрадке, открыл, то история науки и техники, вообще жизни людей сильно бы поменялась. И вот если бы Арсений Горохов в 70-е годы, когда он придумал ЭВМ, её открыл тогда ещё для советской страны, возможно, наш научный прогресс и советские технологии сейчас бы опережали все остальные. То есть мы бы гордились своим героем и городом Омском в каком-то другом ракурсе. И меня это заинтересовало. Я вообще люблю альтернативную историю, у меня много работ, где, например, Пушкин выжил; допустим, есть работы, где я переделываю старые фотографии и пытаюсь воссоздать те фотографии, которых не существует.
— Это та история с Достоевским? Оживили...
— С Достоевским, да. Есть такая история, где я его там и в кандалы заковывал, и фотографии, когда он был в детстве... То есть я пытался с помощью каких-то таких технических средств показать, что Достоевский был обычным человеком, жил в обычной мещанской семье. Я даже сделал серию работ, это детские рисунки Достоевского.
— О Достоевском поговорим чуть попозже. Давайте вернёмся к Горохову. Вы его изобразили таким двуликим — вот это с чем связано? (на экране демонстрируется графическая работа автора)
— Ну, опять же, две стороны медали: у него до изобретения была одна жизнь, после изобретения ЭВМ началась другая жизнь. У него постоянно была такая борьба между тем, что он уже сделал, и... Вроде бы он изобрёл, осталось только это воплотить, но есть проблема, которую он не сумел разрешить. Вот эта двойственность есть и у многих художников, у творческих личностей. То есть ты пишешь картину — её нужно ещё показать кому-то, как-то её реализовать. На это нужен отдельный талант, и не всегда его хватает. И вот у него, видимо, был талант изобретательства, а таланта маркетинга, как это всё представить публике, ему, видимо, не хватило. Как, в принципе, и многим художникам.
— Кстати, вы находите какие-то общие черты с Арсением Гороховым?
— Ну, поэтому он мне, наверное, и близок, потому что я пытаюсь реализовать и своё творчество, и свои какие-то проекты, пытаюсь это делать через выставки, через какие-то публикации, а сейчас вот вам интервью даю (улыбается.) Это тоже такой трудный этап, потому что я привык всё-таки больше работать в мастерской, погружаясь в какую-то свою интересную для меня тему. А потом надо ещё выходить на публику и всё это как-то презентовать. Это для меня уже сложнее. Надо ещё обладать какими-то способностями, талантами, чтобы представлять и себя, и своё творчество, вот как Сальвадор Дали, который был артист. Он мог и писать прекрасные картины, и… То есть он совмещал в себе и то и другое. И до сих пор его, скажем так, признают.
— А почему графика?
— Графика — это всё-таки быстрое рисование. Графика даёт возможность сразу зафиксировать мысль, а поскольку у меня в основном работы связаны с какой-то креативной мыслью, с какими-то концепциями, для меня в графике легче это воплотить в жизнь. Всё-таки у нас не такая огромная жизнь, а хочется побольше чего-то создать, что-то открыть. Ну, и графика по темпераменту, видимо, мне подходит. Я не могу долго копаться, мне хочется работать на каких-то скоростях (смеётся).
— Графика даёт эту скорость?
— Да, я работаю преимущественно в печатной графике, а печатная графика даёт сразу один отпечаток за один сеанс. Ты можешь этот отпечаток видоизменять, и это можно делать в короткое время.
— И уложить несколько смыслов?
— Да. Вот один отпечаток у тебя хорошо отпечатался — один смысл, другой более слабо отпечатался — там ещё какая-то лирика появляется, романтика, ещё что-то, другие чувства, эмоции. То есть даже в графическом отпечатке может быть очень много разных эмоций, главное ещё найти талантливого зрителя, чтобы он это почувствовал. Я вот работаю в детской школе искусств, где пытаюсь привить детям умение видеть красоту там, где её иногда и не замечают люди, проходят мимо.
— Поэтому и художник.
— В принципе, я пытаюсь транслировать и через образование, и через выставки и своё творчество, и себя самого, конечно, тоже. То есть я делюсь своими знаниями, какими-то своими умениями. Это и придаёт, в принципе, смысл нашей жизни, мы пытаемся что-то сделать для общества, и это нормально.
— Вы работаете в традиционной технике, используете традиционные предметы: я знаю, что и расчёски идут в ход, и ложки, и всё это ручная работа, так сказать. Но вы уже сказали до начала нашего разговора, что постоянно соревнуетесь с машиной, с той же гороховской ЭВМ.
— Да, как раз благодаря Горохову я отчасти использую и компьютерные технологии, поскольку практически все эскизы, несмотря на то что я график, я не только рисую карандашом, но и работаю в машине: есть графические редакторы, в которых я создаю, особенно это касается цветных изображений. Создаю изображение первоначальное, а потом я уже могу перевести его в традиционную технику: напечатать, написать акрилом, карандашами. И действительно происходит такое соревнование с машиной. То есть я смотрю на экран, пытаюсь что-то воссоздать; иногда получается, иногда не очень. Всё-таки электронные картины отличаются тем, что там можно получить эффекты, какие-то невообразимые фактуры благодаря электронным возможностям. Руками ты такое никогда не воссоздашь.
— А жизни где больше? Наверное, всё-таки в ручной картине?
— Ну да, касание руки, эмоции, ошибки художника никто не отменял, потому что, если посмотреть на картины великих художников, всё-таки они за счёт ошибок стали великими. Мы обычно опасаемся ошибок, не хотим их показывать публике, а вот эти ошибки в искусстве становятся, наоборот, дополнительной эмоцией. То есть видно, что человек живой, он ошибается, у него там где-то краска потекла, у него рука дрогнула, но именно вот это дрожание руки, вот эта подтёкшая краска даёт эту жизнь, эмоцию, которой не хватает в электронных картинах. Они чётко запрограммированы. Единственное, что вот я нашёл такой способ — это фрактальная графика, где есть элемент случайности. Ты можешь случайно какой-то фрагмент получить, крутя какое-то изображение, даже простое изображение — какой-нибудь кувшин, яблоко, неважно, во фрактальной графике, а фрактальная графика — это удвоение изображения, то есть ты размножаешь одно и то же яблоко, потом они накладываются друг на друга, и получается какая-то абстрактная картина, которую ты уже можешь заключить в рамку, сделать из неё произведение искусства, как-то увеличить, уменьшить, как хочешь. В этом плане машина даёт возможность трансформации, которую ты обычным, традиционным способом не можешь сделать — ручным или какими-то умственными усилиями.
— Фрактальная графика — каков смысл в этом методе работы, что он даёт?
— Он даёт новую эстетику, рождает новые формы, и ты можешь придумать новый мир, как бы перепридумать уже то, что всем известно. (Демонстрируются работы художника в этой манере.) А человек, когда приходит на выставку, всё-таки хочет расширить своё мировоззрение, он хочет найти новые миры, новый взгляд на привычные вещи. И вот именно фрактальная графика даёт такую эстетику, и я в ближайшее время попытаюсь это продемонстрировать на выставке, которая, надеюсь, состоится к концу года: она полностью будет посвящена фрактальной графике.
— Расскажите, что это за выставка.
— Она будет называться «Природа происхождения», это такое пока рабочее название. И я буду там искать природу происхождения всех, по крайней мере мне известных, объектов, которые меня интересовали и которые я смог трансформировать с помощью фрактальной графики, и попробую показать это публике.
— Какие объекты имеются в виду? Объекты живой природы и люди тоже?
— Это и люди, и вещи, и архитектура — практически всё, что нас окружает. Всё же без исключения может быть предметом искусства, везде можно найти эмоцию. Даже глядя на капустный лист, можно увидеть какой-то необычный узор.
— И здесь вы тоже будете показывать эту борьбу человека с техникой?
— Да, рождение новой эстетики, борьба за какое-то новое видение природы. И, в принципе, когда ты ломаешь вещь, а в детстве мы всегда, изучая мир, что-то ломали — машинки, куклы…
— Интересно было, да.
— И мы их разбирали не потому, что нам хотелось их вообще окончательно угробить.
— Было интересно, как это всё устроено.
— Да, мы пытались разобраться. А вот фрактал как раз разбирает всё на запчасти, а потом моя задача как художника собрать, чтоб получилось красиво, эстетично, чтоб сохранялась эстетика, чтоб было не просто разрушение, а при разрушении получалось что-то новое. Вот как у Арсения Горохова. У него ж там много рук, он как буддийский бог, у которого много конечностей, которые или разрушают, или созидают. То есть множество конечностей может способствовать человеку и многое сделать, и что-то разрушить. Но чтобы что-то создать, именно надо разрушать. Я считаю, что (сначала) это момент разрушения, потом идёт созидание, и в итоге всё это надо как-то собрать: пересобрать мир, переустроить заново и показать, как это выглядит. Для меня это эксперимент. Думаю, что и для зрителей, которые потенциально могут прийти на мою выставку, тоже что-то поменяется, они начнут думать, может быть, как-то иначе про тот мир, который их окружает, про природу вещей.
— У вас есть и другие герои, которые не представлены здесь, на выставке, но так или иначе они у нас есть. Это, например, Леонид Мартынов, Аркадий Кутилов, Антон Сорокин. Это те люди, через которых вы делали Омск родным: он сделался вам родным, вы начали его любить.
— Да, я приехал всё-таки из другой области, из Тюменской. И для меня, конечно, Омск...
— Это действительно так — через этих людей вы «заходили» в город и понимали этот город?
— Во-первых, я работал с музейными сотрудниками, сталкивался с людьми, которые говорили про Омск, которые здесь живут долго, которые здесь родились. И для них эти люди были значимыми. Когда я начал их изучать, для меня тоже город Омск становился как-то роднее, потому что я сначала познакомился с ним через этих людей. А потом, я здесь уже живу долго и тоже стал как бы обрастать привычками, связанными с этим городом. Мне, конечно, чтобы как-то интегрироваться в омское общество, нужно было с этими людьми действительно познакомиться.
— Нужны были точки опоры.
— Да-да. И такая серия в 2015 году состоялась — «Карнавал». Была выставка в Литературном музее Достоевского. Она так и называлась — «Карнавал».
— Почему карнавал?
— Ну, «карнавал» вообще в переводе с латинского «прощай, мясо». То есть люди перед постом ели, пили, веселились, наряжались. До сих пор проходят карнавалы там, в Венеции, например. И меня эта тема заинтересовала. Потому что, чтобы написать портрет, обычно нужно всё-таки быть лично знакомым с человеком; лучше, чтобы он был где-то рядом, чтобы понять его характер, эмоции, мимику, жесты и всё такое. А у меня такой возможности не было. Кто такие Сорокин, Мартынов, Кутилов? Они жили ещё до меня, так скажем (смеётся), и, в принципе, меня не было здесь, в Омске. Соответственно мне нужно было найти к ним какие-то другие пути. И вот в эпоху Позднего Возрождения был такой способ: когда ты пишешь портрет человека, используешь какие-то атрибуты, то есть ты о нём рассказываешь через вещи, которые принадлежат этому человеку или он как-то с ними связан. (Демонстрируется работа с Кутиловым.) И для меня нужно было нарядить этих персонажей в какие-то костюмы, добавить им какие-то атрибуты, чтобы в первую очередь лучше их понять и чтобы зрителям было понятно, кто перед ними. (Демонстрируется работа с Мартыновым.) То есть по каким-то предметам, по вещам, которые на человеке, можно понять, чем он занимался и какой у него мир. (Демонстрируется работа с Сорокиным.) Поэтому и Арсений Горохов, и Антон Сорокин, и Леонид Мартынов, и Аркадий Кутилов — они все имеют какие-то атрибуты, они все входят в эту серию «Карнавал».
— Сложно ли искать, изучать эту историю, чтобы найти какую-то зацепку?
— Поскольку я вообще историю преподаю, мне было интересно изучать именно историю этих людей, я углублялся в их биографию, смотрел материалы. Опять же, сейчас очень удобный такой вариант — цифра: ты можешь в Интернете найти всё — все эти библиотеки, книги, стихи, биографические данные, фотографии. Если раньше я должен был идти в библиотеку, то сейчас все эти библиотеки находятся в открытом доступе. И это сокращает время изучения материалов мне легче работать, конечно.
— Вы так же хорошо изучали биографию Достоевского.
— Да, когда был юбилей Достоевского, состоялась выставка «Фёдор Достоевский» в музее «Искусство Омска». Я опирался в основном на биографию, потому что часть биографии Достоевского связана с нашим городом Омском. Именно в том месте, где сейчас находится музей «Искусство Омска», он отбывал наказание. И для меня это тоже было важно.
— Четыре года он провёл в Омске.
— Выставка, в принципе, стала такой вот биографичной. Многие вообще не любят Достоевского, считают, что он плохой писатель: пишет какие-то гадости про людей и так далее. Ну, не все его воспринимают.
— Чем он вас привлёк?
— Меня он привлекает именно как личность. Хотя он отчасти недавно стал дворянином (его папа изначально был мещанином, врачом), он из дворянского сословия единственный отсидел на каторге, лишился всех своих званий и потом сумел, преодолев все эти препятствия, стать таким известным, великим писателем, которого читали, которым восхищались, которым измеряли мировоззрение не только в России, но и вообще — за рубежом его тоже знают. До сих пор он такая величина! Меня привлекла вот эта сила преодоления, то есть он сумел найти в себе силы не опуститься после всех этих наказаний, а творчеством доказать, что он личность, что он может жить, имеет право на своё высказывание через литературу. И он был счастливым человеком, хотя болел, страдал, но он сам себя считал счастливым человеком. Да, он сумел через искусство стать таким вот действительно достойным человеком.
— Не только ряд картин появился на выставке. Я знаю, что и на почтовых марках изображение Достоевского и тех произведений, которые были написаны им в Омске.
— Ну, это опять же вопрос к реализации. Я пытался, знаете... Не всегда удаётся сделать большую выставку. Это большой труд, надо много времени, ресурсов.
— Так или иначе, это всё оказалось таким популярным.
— Я решил взять марку, маленький такой миниатюрный вариант произведения искусства. Кто-то коллекционирует марки: в детстве, может, увлекался. По крайней мере, эта форма известна всем. И я показываю иногда марки вместе со своими уже такими традиционными картинами на выставках, и в качестве сувенирной продукции эти марки тоже существуют, реализуются. Меня привлекло именно то, что я могу многое рассказать. Вот один марочный блок — и можно рассказать кратко какую-то биографию или краткую историю. Я вообще люблю рассказывать истории через свои произведения. Кто-то больше опирается на эмоции, а поскольку я график, я больше опираюсь на какие-то такие формы, на какие-то даже тексты.
— То есть должен быть ещё визуальный ряд?
— Ну да. И эмоция тоже важна. Цвет всё-таки больше эмоций вызывает, это ближе к живописи. А графика — она ближе к аналитике, к изучению чего-то. Графика ближе даже к математике, может быть.
— Начали мы уже эту тему, что вам современные средства помогли «оживить» Достоевского. Это про нейросети, вы ведь использовали нейросети?
— Да, я «оживил» фотографию. (Демонстрируют.) Существует несколько прижизненных фотографий Достоевского, и одну из фотографий я «оживил» и показал Достоевского на выставке именно через экран монитора, зациклил его изображение в разных цветах. Такой поп-арт получился, в какой-то степени как у Энди Уорхола, где он разных личностей в разных цветах показывал и в разных ракурсах.
— Какие эмоции это вызвало?
— Ну, вообще смотрители музея подумали, что действительно есть кинохроника Достоевского, то есть он попал на киноплёнку. Я потом объяснял, что это нейросеть помогла «оживить» фотографию Достоевского.
Вообще, зрители как-то органично воспринимали его именно как живого. Поскольку раньше фотография была очень качественная, то он как-то так хорошо «прижился» на экране, что вызывал у зрителей, в принципе, положительные эмоции, тем более он там у меня улыбался. Он же такой мрачный писатель, угрюмый, задумчивый, на картине Перова сидит такой, чуть ли не в депрессии. А тут у меня он был улыбчивый, немножко даже застенчивый такой товарищ. Хотя при жизни, пишут, он был такой немножко действительно нелюдимый, малоразговорчивый, всё время задумчивый, хотя имел очень хорошую речь, читал свои произведения публично, умел выражать свои мысли.
— Сложно ли художнику сегодня найти тему для очередной выставки?
— В Омске у нас много креативных кураторов: работают и в музее Врубеля, и у нас в музее. Тот же «Город героев» даёт богатую возможность художникам подумать на эту тему. Но поскольку у нас в учебных заведениях чаще всё-таки акцент делается на натюрморт, на пейзаж, то, выходя из учебного заведения, многие бывшие студенты мыслят именно этими категориями, этими жанрами. И композиции в образовании уделяется очень мало внимания. Композиция — это ты как композитор что-то придумываешь. А композиция, если смотреть по часам, в учебном процессе занимает очень маленький процент. То есть человека не учат придумывать, его учат просто технически изображать то, что он видит. А придумывать — это уже или природа тебе что-то новое подскажет — какую-то тему, или учитель тебе попадётся, который тебя будет вот специально натаскивать на то, что ты должен как-то оригинально мыслить. Ну, как повезёт…
Вообще, обычно если человек недоучен, то его как-то легче на какую-то дорогу перевести. Чтобы он не просто изображал натюрморты или фиксировал документальные события, а чтобы он импровизировал, чтобы был более раскрытым и эмоционально, и технически, чтобы его легко было «перековать», как-то переобучить. Хотя я считаю, что школа нужна. Человек должен уметь работать и карандашом, и руками, и печатать что-то, и по трафарету работать, и краской, и цвет видеть и чувствовать. Это всё-таки грамота, которая позволяет тебе потом выражать свои чувства, мысли и всё, что ты хочешь.
Мотивировать себя на создание произведения очень сложно, если нет отклика у зрителей. Всё-таки человек — существо общественное, ему хочется, чтобы зритель его поддерживал. Когда ты что-то новое создаёшь, это не всегда получается. Вот как у изобретателей это бывает, так и у художников. В принципе, все мы занимаемся таким творчеством, пытаемся создать что-то новое.
— А у вас были такие картины, которые зритель не понял?
— Да, конечно, много вопросов возникает у зрителей. Зритель всё-таки привык к тому, что он понимает. А чтобы что-то новое как-то переработать, нужны усилия, а усилия сейчас никто не хочет (прилагать).
— Всё должно быть быстро считываемо?
— Вот сейчас нажал на кнопочку — и у тебя уже появилась куча информации, а добывать её — это сложно. Произведение искусства — это добыча. То есть ты хочешь что-то узнать, увидеть новое — ты всё равно должен чуть-чуть поработать: и мозгами, и чувства свои раскрыть.
— Не просто глазами считать, но ещё и подумать и поразмышлять?
— Да. Вот я увидел: это похоже на реальность — значит, это нормально, а если это как-то трансформируется, видоизменяется — значит, художник или рисовать не умеет, или он… может, какой-то ненормальный.
— Вы поэтому не любите пленэры, потому что — всё просто и что тут вообще делать (усмехается)?
— Это не мой принцип работы. Пленэр — это всё-таки ты должен увидеть: вот перед тобой здание, дерево…
— ...и максимально чётко скопировать?
— Не максимально чётко, а ты должен этим вдохновиться и как-то это интерпретировать по-своему. Пленэр — это не плохо. Я не считаю, что пленэр — это плохо, просто это не мой вариант работы. Я считаю, что пленэр как раз помогает людям, у которых не очень богатая фантазия, но их переполняет много чувств и через пленэр они могут их показать. Потому что на пленэре как раз можно работать открытым цветом, быстро, эмоционально, пока светит солнышко, пока идёт дождь и т. д. И для тех, у кого много эмоций, пленэр — это вообще замечательно! Я считаю, что это хорошо. Потому что природа постоянно нас обогащает, и мы постоянно ею вдохновляемся. Люди на рыбалку ездят не потому, что они без рыбы голодают. Они хотят пообщаться с природой: нужен повод. Художнику тоже, чтобы создать что-то новое, нужно чем-то вдохновиться. Меня вдохновляют какие-то события, люди, какие-то ситуации, какие-то концепции. В природе это сложно почувствовать, найти, поэтому я работаю с информацией, какими-то готовыми штампами, которые пытаюсь как-то перевернуть, сделать из них что-то оригинальное.
— В Омске сейчас вас что вдохновляет, например?
— Я сейчас пытаюсь просто собрать свои работы, которые выполнил во фрактальной графике, и меня пока ничто не отвлекает от этого. Я пытаюсь погрузиться в эту тему, потому что мне нужно и традиционные свои картины, и фрактальные картины найти и как-то понять: где я работал с фракталом, где я не работал с фракталом. Меня сейчас именно эта тема интересует.
Вообще, я недавно работал со сказками Бажова, например. То есть меня вот так мотает: я не пытаюсь погрузиться только в одну тему, работаю достаточно локально, в основном зимой. А летом я больше на отдыхе. (Смеются оба.)
— Вы когда-то в детстве начинали свою художественную деятельность с лепки. Лепили из глины, насколько я знаю, потом раскрашивали эти фигурки, причём кисточками, которые вы делали из шерсти своего рыжего кота (смеётся).
— Дело в том, что я родился в небольшом посёлке Берёзово. Есть такая картина — «Меншиков в Берёзове»...
— Это Тюменская область?
— Да, Тюменская область. И там, конечно, не было художественной школы и не было инструментов, которые я мог бы пойти и купить в магазине, художественных салонов не было. Поэтому я приспосабливался, а мне хотелось что-то создавать. Я покупал пластилин, лепил из него, потом из глины. Это же тоже искусство, форма, опять же; она, кстати, очень близка к графике, потому что форма в графике и в скульптуре — очень важный момент. И кот рыжий мне помогал, кисточки были такого рыжего цвета от этого бедного кота (смеётся).
— Сегодня, как вы считаете, можно заметить в ребёнке: допустим, сидит что-то лепит, — будущего художника и развивать его в этом направлении?
— Дело в том, что у детей получается что-то случайно, то есть они не осознают то, что делают. Им нравится что-то делать — они делают. Многие художники потом ищут это состояние. Потому что когда ты взрослеешь, ты его теряешь. Ты уже всё знаешь, и тебе это уже неинтересно. А ребёнку всё интересно, и поэтому, когда он пытается изучить мир, он рисует, он лепит, он что-то вырезает, и у него иногда получается что-то новое, какие-то эстетичные вещи. У кого-то от природы заложено интересное видение, у детей тоже это есть. Вообще, в маленьком возрасте очень сложно понять, кто будет потом художником, у кого это потом пойдёт в специальность или в какой-то жизненный принцип. Потому что все дети талантливы — да, вот так!
— Вы часто говорите, что в художнике должна быть вот эта детскость, удивление, умение радоваться каким-то открытиям. А удаётся это сохранять? Чем дальше, тем сложнее, мне кажется.
— Сложнее, конечно. Чем больше ты знаешь, тем больше понимаешь, что ничего не знаешь. Эта философия работает и никуда не исчезла.
— Но ведь творческим людям это так важно.
— Да, но… вообще, информации много. Я же говорю, компьютерные технологии сейчас очень сильно помогают найти какие-то новые источники вдохновения. Сейчас очень много графических редакторов, в которых ты можешь что-то придумывать, крутить-вертеть, получать какую-то новую информацию опять же с помощью электронных технологий.
— Вас это удивляет, окрыляет, вдохновляет?
— Ну, это большой потенциал для будущих художников. Я-то только вот пытаюсь из этого что-то для себя взять, то, что мне интересно, то, что доступно для меня, и то, что я могу в какой-то степени транслировать через произведения искусства. А кто-то, может, поработает ещё в каком-то формате. Единственный минус в том, что люди начинают потреблять информацию, никак её не используя, а это как будто ты ешь много пищи и это тебе идёт не на пользу: ты толстеешь, у тебя идут какие-то плохие трансформации, ухудшается здоровье. А нужно всё-таки эту информационную пищу транслировать или преломлять через искусство, через науку, через какие-то виды деятельности, которые что-то создают. Какая-то созидательная энергия должна быть, а не разрушающая. Компьютер, электронные технологии можно так и эдак использовать (улыбается).
— Наверное, как любое достижение человека?
— Да. Та же самая ядерная энергия — можно так и эдак использовать. Смотря в чьи руки это всё попадёт.
— Интересно было с вами беседовать! Большое вам спасибо за разговор!
— Вам спасибо за приглашение!
— Будем ждать вашей новой очередной выставки!
— Да, надеюсь, к концу года у нас что-то интересное состоится.
— Обязательно посмотрим. Спасибо!
Полную версию видеоподкаста можно посмотреть здесь.