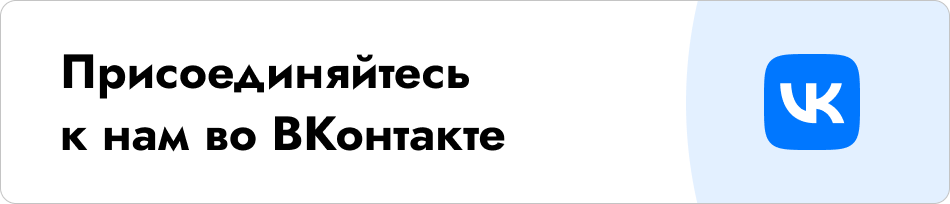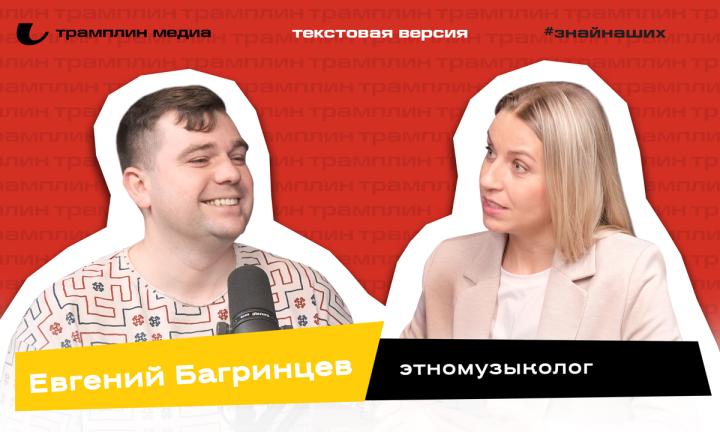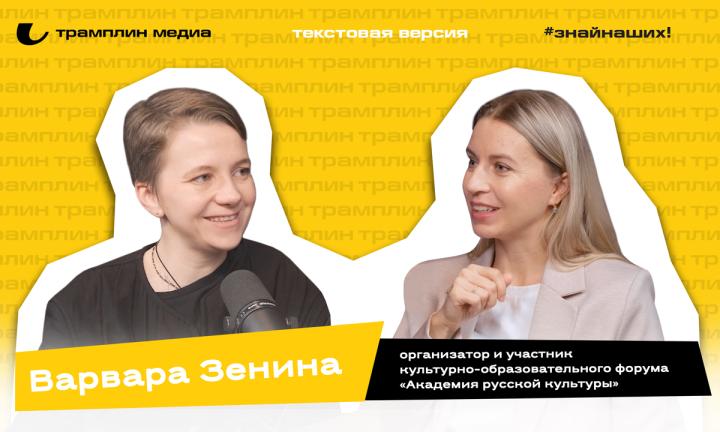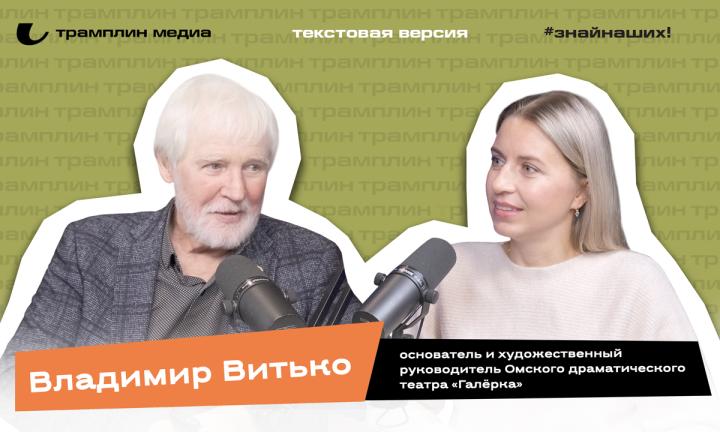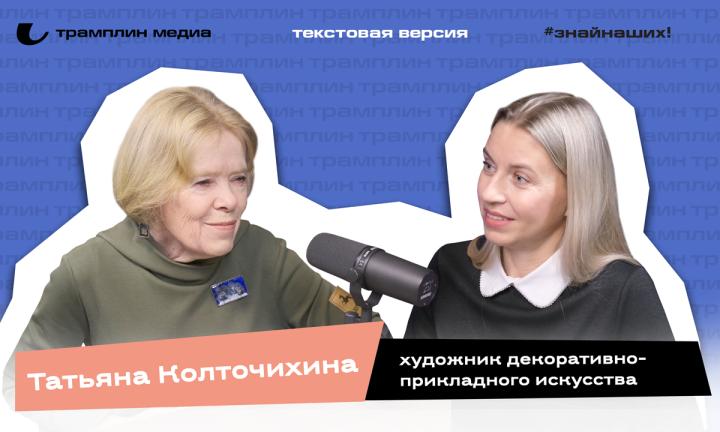Дата публикации: 16.03.2024
Для тех, кто любит читать, текстовая версия подкаста «Знай наших!» с человеком, который покорил чёрный металл и о котором сам Евгений Евтушенко написал: «Измазан ржавчиной и сажей, зато душой железной чист». Скульптор, график, художник Александр Капралов.
Александр Николаевич, здравствуйте. Я не могу не поздравить вас с открытием выставки, посвящённой вашему юбилейному году – «METAЛLIFE / METAЛLOVE» – таково название выставки. Чёрный металл действительно стал любовью всей вашей жизни, а как зарождалась эта любовь? Как вы думаете, почему вообще так случилось, что чёрный металл стал вашей жизнью? Он лучше всего отвечает вашему характеру, нежели дерево, глина?
– Я на худграфе учился, конечно, там минимум часов по скульптуре, два семестра что-то – смешно. Нос, глаз лепили. Потом кружок, там скульптуры были. Начинается скульптура, конечно, с глины, с пластилина – всё, что более-менее доступно. Это всё можно отформовать, можно отлить. У меня работ пятьдесят, допустим, – в гипсе отлил. Это начальный этап, когда ты учишься, возможностей нет у тебя на другие материалы. Потом как-то на дерево я перешёл, что-то из дерева делал. Это тоже не очень дорого, стамески и прочее, прочее. Дальше я попробовал мрамор, был на даче в Переславле-Залесском в 1990 году, единственная всероссийская дача для скульпторов, она и сейчас существует. Там натурщики из Москвы, формато́ры, мрамор привозили. Я тоже взял себе пару кусочков, съездил в Москву и инструменты купил. Сделал я там два камушка – они принадлежат музею «Искусство Омска» – и две работы на выставке представлены. Это лучшие мои камушки. Сделал я, не знаю, может быть, работ десять в мраморе, и на этом закончилось. А потом как-то... Литья же у нас в Омске нет, может, будет когда-то. Куда-то отправлять отливать – в Москву, в Санкт-Петербург – представляете, как это всё канительно, дорого и прочее? Как-то меня свела судьба со сварщиком: родственник по линии сестры куда-то в Германию уезжал и оставил мне сварочный аппарат и все эти прибамбасы. Вы знаете – две железки соединил, капнул – и они держатся друг с другом. Потом, со временем, когда ты растёшь, что-то получается, что-то делается, я уже придумал какое-то оправдание чёрному металлу. Говорю, что ржавчина – это та же патина на бронзе, в принципе, это так и есть: окисляется металл, появляется ржавчина. Единственное, надо сломать в голове у нас вот этот барьер к чёрному металлу, к ржавой машине, к ржавым батареям, ещё к чему-то, к ржавчине. А так – металл благородный, мои большие работы двадцать пять лет в Омске отстояли и ещё будут стоять, думаю, двадцать пять.
– А вы свою первую скульптуру из чёрного металла помните, которая наверняка подтолкнула вас действовать дальше?
– Помню. Она даже стоит возле музея «Искусство Омска». Вот это колесо – моя первая сварная работа, которую я сделал. Я строил большую мастерскую, как раз начал строить, всё строил, строил – быстрее в зиму загнать тепло, чтобы сделать вот это колесо. У меня был рисунок, и я хотел его сделать. Вот с этого колеса как-то и покатилось. А дальше опыт появился, другое качество обработки металла появилось и прочее, прочее. Ну и возможности, свобода, свобода выражения. Мне сейчас проще из металла сделать, чем из дерева, потому что можно поменять, можно отрезать, переварить, вообще поменять композицию. Поначалу по рисуночку делаешь одно, как задумал, потом, значит, делаешь-делаешь, по финишу может получиться абсолютно другое, вообще не связанное с тем рисунком. Вот если, допустим, дерево или мрамор – есть блок мраморный, под него делается эскиз и потом переносится. Ты не можешь ничего изменить. Так же и в дереве. Ещё есть вариант работы – допустим, есть камень красивой формы, и в него ты вписываешь какую-то свою вещь. Лишнее убираешь – и получается. А здесь ты свободен: как пластилин, лепишь. Слепил неудачно – оторвал, ручку так сделал, так задрал, в кулачок сжал. Всё можно сделать! И в то же время это сразу металл. Да, конечно, его надо обработать, несколько слоёв обжечь, пошоркать, полачить, патину втереть, но это уже металл, и ему уже ничего не страшно. На выставках, когда все боятся, что он упадёт, я не боюсь. Боятся те, у кого плитка на полу и всё прочее. А металлу ничего. Даже если что-то согнётся, мы выправим, приварим, это не проблема. А вот гипс – те работы, о которых я говорил, я не помню, сколько их, допустим, пятьдесят было – сейчас у меня в мастерской сохранилось ещё работ пятнадцать, которые не разбились. Остальные – просто вот упала – и всё, её нету. На мелкие кусочки развалилась. Это переходный материал, гипс. Вот так вот металл меня затянул, это мой материал.
– Своей практичностью?
– Практичностью. И отверстия всякие разные можно оставить, тонкие вещи. Допустим, если ты делаешь под литьё, надо тебе сделать фигурку и ручку, и ты обязательно пальчики вот так соберёшь. Почему? Потому что формовать-то кто будет? Так формовать намного сложнее, чем вот так. А лучше вот так и вот так.
– Всё видно, всё читается.
– И тогда обобщённо всё, легче формовать. А тут ты об этом не думаешь, в этом есть свобода.
– Скульптура Дон Кихота, которая долгое время стояла у ТЮЗа, – вы говорили о том, что каждый раз хотелось что-то сделать с ней: добавить, что-то убавить. Сейчас её убрали. Она у вас сейчас в Москаленках? Вы работаете с ней?
– Когда мы её поставили, изначально была идея: ослик, Санчо Панса. Но времена были другие, сложные времена, честно скажу. Поэтому решение у него такое более декоративное, более плоскостное. Там волосы были, борода – всё это оборвали со временем. В общем, мои скульптуры на прочность испытывают, да. И вот прошло двадцать с лишним лёт – и как-то подфартило мне, я всё-таки её сейчас переделал: руки, голову. Композиция осталась та же, движение осталось то же, только добавились детали, фактуры, лицо лошади изменено, лицо Дон Кихота, руки, потому что там было всё грубо сделано. И в этот раз мы ещё ослика сделали и Санчо Пансу. Санчо Панса стоит рядом с осликом. Почему? Потому что со всех сторон посадить его на ослика было бы лучше, но времена селфи, времена фотографий... А там мы сделали седло, ступеньку – можно будет теперь на осла сесть и сфотографироваться.
– Никто не будет мешать.
– И будет хороший кадр, там будет Дон Кихот где-то сзади, будет отличное место для фотографирования. Потому что даже без Санчо Пансы, безо всего, люди залазили на лошадь и фотографировались. Поэтому мы сейчас пошли навстречу. Всё деталями обросло, какими-то фактурами. Надеюсь, что он совсем другой – и намного лучше.
– А известна дата, когда мы сможем увидеть его обновлённого?
– Мы его хотели вообще поставить ко Дню города, но ремонт ТЮЗа затянулся, я не знаю, когда теперь, не от меня зависит.
– То есть ждём открытия ТЮЗа, только тогда.
– Наверное. Потому что нельзя же было его поставить, чтобы он за забором там стоял в песке, в строительных делах.
– Конечно.
– Решили так, и это правильно.
– Он будет на том же месте установлен, где и стоял?
– Да.
– Лет двадцать-тридцать в Омске, наверное, ничего такого грандиозного не устанавливали, не было каких-то мощных скульптур. Как вы считаете, почему?
– Почему, устанавливаю. Сейчас время – вообще ажиотаж какой-то скульптурный.
– Это сейчас, наверное. Последние лет пять.
– До этого лет двадцать – да, ничего не делалось. Работы появились при Валерии Павловиче Рощупкине, это Любочка, Сантехник, мои железки.
– Это, наверное, самое активное время было.
– Это при нём, да. Потом затишье было. «Детям Ленинграда» был поставлен, «Трудовой подвиг». Сейчас какой-то бум пошёл – ставят, ставят.
– А с чем это было связано? Не было места, запроса, какого-то повода громкого, чтобы поставить какую-то очередную скульптуру? Или как всегда – денег нет?
– Вы знаете, считать деньги в кармане бюджета мне сложно. Я думаю, всё зависит от головы: рыба хвостом вперёд не плавает. Вот рыба, вот голова, есть человек, который тянется к искусству, значит, он что-то делает в этом направлении. Я имею в виду мэра, губернатора и прочее. Если человек занимается другими делами, ему менее это интересно. Соответственно, остаётся не так востребовано. Потому что решают – раз, два и обчёлся кто, поэтому такие вещи. Я ставил много всякой ерунды к ресторанам, но это к искусству никакого отношения не имеет.
– Это заказные вещи?
– Это кушать, хлеба купить и прочее, прочее. Вообще я признаюсь, что мои работы – работы три, про остальное я стараюсь делать вид, что это не моё.
– Почему?
– Потому что это плохо.
– То есть? Вы так относитесь?
– Конечно. Я справедливо отношусь. Оно знаете, почему плохо? Потому что оно стоило столько. Невозможно сделать работу, если она стоит миллион, её за сто тысяч невозможно сделать хорошо, потому что за сто тысяч ты даже просто железа или материала не купишь. Поэтому сколько она стоила, столько она делалась. Это такое временное, это как реклама, что ли, возле ресторанов что-то. Оно постоит, завтра хозяин сменится – уберут, выкинут. Это нормально.
– А «Динамическое равновесие» – те знаменитые весы возле музея Врубеля – это тоже была вещь временная?
– Да, это временная работа. Я её ставил на время выставки – у меня была выставка во Врубеля, я сварил эту работу, поставили на время. Её бы, наверное, уже и убрали бы, но Леонид Константинович, помню, водил Ланового по городу, рассказывал ему про Колчака, и они были в музее. Потом вышли из музея, Лановой увидел это «Равновесие» и что-то там начал читать, шекспировские, по-моему, сонеты. Ну и ходила же ещё свита с камерами, это всё было заснято, потом раза три этот фильм показывали по телевидению. Мне один начальник говорил: «Вот теперь пусть попробуют уберут».
– Но вы сами хотите, чтобы её убрали?
– Сейчас – да. Я ещё не обращался, что-то сказал на телевидении, надо как-то уже дальше двигаться. Как-о время её вышло, она простояла 20 лет, я думаю, её надо убирать, она уже так не работает, как тогда работала. Это место займётся чем-то другим.
– Но тоже вашей скульптурой?
– Нет-нет-нет, я не претендую.
– А если так же убрать, как «Дон Кихота» – и достроить, доделать, что-то убрать?
– Это всё можно, но не в этом моя цель. И «Дон Кихота» делать – тоже не была моя цель заработать, а цель моя – всё-таки как-то его закончить.
– Потому что вы с этой мыслью жили все эти годы?
– Он был сырой, мне хотелось бы сделать его как-то более-менее. А это «Равновесие»... Я ещё не разговаривал, надо поговорить. Может быть, уберём. Я лично за.
– Как вы считаете, каких скульптур в Омске не хватает? Чему они должны быть посвящены и где они должны стоять?
– Вы знаете, скульптуры как-то так делятся на... В последнее время я это уже озвучивал. Как в советское время называлось – монументальная пропаганда: Ленин, ещё что-то, космонавты. Сейчас такая волна пошла – видать, государством востребована эта тема, сплотить людей. Это нормально, на то она и существовала всегда, эта монументальная пропаганда. Вторая сторона – последние лет двадцать работали, просто у нас не ставили – подвид «Сантехника» в Хабаровске; Вицин, Моргунов стоят... Из кадра, из фильма берут и делают в бронзе. Такая вот развлекаловка была. Я сторонник чего-то такого – хотя бы Дон Кихота, а не Вицина. Мне кажется, не хватает работ... для человека, для души. Сомневаюсь я, что душа у человека тянется пойти к памятнику Жукову, Ленину или конной статуе. Как-то она далековата от него, от его души. Я думаю так. А собачка, обезьянка, птичка, какой-то смешной человек с какой-то интересной задумкой, небольшой... Мы все разные: кто-то к классике тянется, кому-то нравятся реснички, а кому-то обобщённая, декоративная, абстрактная форма, почему бы и нет. Каждому человеку в принципе нужна своя скульптура, он как-то к ней будет обращаться.
– Сейчас есть какие-то такие небольшие скульптуры, например в том же сквере напротив мэрии. Ладошки, семья изображена. Они в парке должны стоять по большей части? В скверах? Или где-то, может быть, вдоль улиц размещены? Есть ли какие-то места, которые сегодня в Омске требуют: вот здесь что-то нужно поставить?
– Вы знаете: мест – даже несколько тысяч, цифру не могу сказать. Ставить надо везде, много и разные. Она может быть и в парковой зоне, где мамочки гуляют с детьми. Другая какая-то скульптура – конечно, обезьянка или птичка не должна сидеть где-то на трассе, на асфальте, где машины без конца едут – там что-то такое должно быть призывающее, что-то большое по размеру. Мест очень много, просто немерено мест, и скульптуры тоже должны быть абсолютно разные. Знаете, это как говорить – воздух сотрясать. Можно говорить, говорить, говорить. Вообще, конечно, классический бы вариант был, когда строятся здания и сразу в смету – скульптура. Так делается на Западе.
– А как понять, пока оно строится, какая тут нужна?
– Тема есть. Допустим, это арбитражный суд – понятно же, какая тема. Единственное плохо, что сразу поставят Фемиду с мечом, хотелось бы что-то другое.
– Почеловечнее чего-нибудь.
– Это классический вариант. А вообще, допустим, Курцаев ставит мои работы к ресторану. А другие – правда, сейчас смотрю, там какой-то скрипач ещё есть, ещё что-то я видел. Но лет двадцать – только он ставил, причём это связано и со всякими скандалами, потому что есть люди, которые сразу говорят «нельзя».
– Какой общей темой вы объединяете все свои работы? Почерк-то виден однозначно, все мы знаем, что это скульптура Капралова. А что вы сами вкладываете?
– Такой основной темы нет. Есть какое-то время, когда ты делаешь какие-то клетки. Поначалу я всё делал серьёзные вещи, хотелось быть умным и красивым.
– Клетка – это ваше внутреннее состояние?
– Нет. Клетка – это наше общее состояние. Всё зависит от того, у кого какая клетка. Вот эти весы, которые возле музея – там идея какова: фигурки, на некоторых клетки, некоторые в клетке сидят – смысл в том, что каждый себе клетку делает сам. Либо ты делаешь маленькую себе, квартирку, либо больше, а кому-то вообще мало места. Каждый выбирает себе клетку и строит её.
Есть какое-то время клеток, потом какое-то колесо, одно колесо не закончишь, мысль какая-то есть другая – второе колесо делается. Всё-таки основное – это то, что свобода, и ты делаешь то, что ты хочешь. И ничем ты не связан. Правда, для этого надо выйти на какой-то уровень, чтобы это было возможно, разрешено для тебя. В смысле – разрешено жизнью: на что кушать и прочее.
– Вы свободолюбивый человек?
– Я – да. Знаете, из фильма «Калина красная» – видели фильм?
– Конечно.
– Помните, когда Шукшин приехал к Шукшиной в деревню, его поставили председателя возить, он его дня три повозил и говорит: «Поставь меня на трактор». «А в чём дело? Чего тебе?» «Да ты знаешь, у меня такое ощущение, что я тебе постоянно в глаза заглядываю, понимаешь?»
– Любовь к свободе повлияла на то, что ушли из университета? Ведь вы практически всю свою жизнь отдали педуниверситету.
– Я в 1983-ем поступил на худграф и в 2013 году уволился. Как-то время изменилось, университет изменился, студент изменился, я изменился, устал. И возможность у меня всегда была уйти, я до этого пару раз увольнялся – по году не работал. Я никогда не ставил на университет как на зарабатывание денег или ещё что-то.
– То есть пока были силы – вы отдавали.
– В общем, да. Когда это не сильно в тягость было. Всё-таки сто километров ездить не так просто.
– Да, вы всё время прожили в Москаленках, мечтали-мечтали в Омск переехать, но так и не переехали.
– Да, я как-то смолоду тянется. Я в Переславль хотел в 90-м году уехать, потому что цена на дом здесь и там была одинаковая. Может, она и сейчас одинаковая. Мама была жива, и я так остался, а потом оброс мастерскими, строил одну, вторую, а скульптура – это мастерская. Скульптора без мастерской не бывает, не может быть. Каждый гвоздик вбитый – это задел на будущее, каждый инструмент, каждая розетка сделанная – это задел на будущее. Если живописец – ему, может, помещение, свет и всё, то здесь надо оборудование, кабели силовые и прочее. В общем, очень много всего, я так оброс. Квартиры не было. Когда я квартиру купил, мне было что-то лет пятьдесят, наверное.
– Уже тогда и желания не было куда-то.
– Да, уже и желания нет, а там у меня ружьишко, лодочка, травка зелёная, собачка. Я сейчас не представляю себя в квартире.
– Это, опять же, всё своё. Своя земля, своё небо.
– Да я как-то уже говорил кому-то, как-то посчитал – квартал это четыре дома так, четыре дома так. И сколько же я считал-то... То ли пятнадцать кварталов, то ли двенадцать, то ли двадцать – и я единственный коренной житель. Представляете? Все разъехались. Кто переехал куда-то в Краснодар, кто-то умер, кто-то переехал в Москву, кто куда. И только один я там сижу.
– От рождения и до сих пор.
– Самое смешное, я дома родился, прямо на этом же месте.
– Так куда от него уехать.
– Я сначала-то рвался. Поначалу не думаешь, а сейчас с возрастом у меня даже появились какие-то мысли: скорее всего, это мне и придало силы, дало возможность работать. На своём месте я строил, что хотел, я там сарай построил – в нём работал.
– Конечно, это ваш мир уже.
– Да, это мой мир, и я так оброс, сейчас понимаю: возможно, это всё меня как-то подпитывало, это моё, я там родился, там мама, папа у меня похоронены. Ну а сейчас – главное, чтобы машина хорошая была и на солярку денег было, будем ездить. Представляете, сколько я отъездил за всю жизнь?
– Нет, не представляю.
– А я, бывало, в студенческие годы, когда, допустим, негде ночевать, негде жить было, каждый день ездил в электричке. На занятия приезжаешь, вечером уезжаешь, потом опять утром... Это кошмар был, конечно.
– Теперь я понимаю вашу любовь к этому раздолью. Ты свободен и не зависишь от каких-то обстоятельств.
– Времена были такие, я четыре раза поступал на худграф. У меня не было вариантов, как сейчас, допустим, можно документы сдать в разные места.
– В пять вузов.
– В разные вузы. И поступать. А как любовь к профессии, куда её деть. Я четыре раза поступал, потому что то физику не мог сдать, то математику. Тогда сдавали физику, математику. У меня профессия в дипломе – учитель черчения, рисования и труда.
– В школе пришлось поработать?
– Нет, я остался в институте, меня оставили лаборантом работать. Но пришлось сдавать физику, математику, что сейчас не сдаётся на такие специальности, и я, естественно, заваливал, потому что ни в математике, ни в физике... Тяжёлый случай, в общем. Но четыре раза я поступал – и поступил.
– Скажите, никогда не появлялась мысль сделать в Москаленках, вот здесь, на месте, какую-то туристическую точку? Что-то вроде музея или какой-то выставки, которая бы постоянно менялась.
– Три года назад я перестроил свою мастерскую. У меня была большая мастерская, заказов не было никаких – ни «Дон Кихота», ничего делать не надо было. И я перестроил эту мастерскую, сделал там выставочный зал. И сейчас у меня там выставочный зал – два этажа, наверху моя коллекция, я любил всегда художников, оформлял их – друзей, товарищей. Там у меня висят хорошие картины – Кичигин, Баймуханов, Дамир Муратов. И на первом этаже тоже висят картины и работ шестьдесят стоит, мы их сейчас вывезли на выставку. Сейчас работ двадцать там осталось. Допустим, шестьдесят скульптур, пять метров высота зала там и второй этаж трёхметровый, это всё завешано картинами. Три года у меня там выставочный зал, такая галерея.
– То есть люди приходят.
– Люди не приходят, люди приезжают. Возят экскурсии ко мне – люди садятся в «газель», когда собирается группа – приезжают. Они сначала идут по городским скульптурам, им экскурсовод рассказывает. Потом они заезжают в мастерскую на Ленина к сыну, там стоят скульптуры и сыновы картины, он им там что-то своё рассказывает, а потом они едут в Москаленки.
– За сто километров.
– Да, за сто километров. Я им прямо сразу говорю: «Молодцы, что приехали. Расскажу всё и ещё и совру с короб за то, что вы сюда приехали». Мне кажется, за один день они узнают столько, сколько за всю жизнь простой человек не узнает о скульптуре.
– Вы прямо какие-то академические вещи рассказываете – что такое скульптура, какая она бывает?
– Нет, я показываю, как делается скульптура: вот ручка отдельно, вот головка отдельно.
– Непосредственно.
– Я могу даже, если попросят, приварить, поточить что-то. Я эскизы показываю на «Крест несущего», на 200-летие Достоевского – на знак на этот. У меня же рисунки какие-то есть, и я это всё им показываю, рассказываю, плюс какие-то анекдоты рассказываю. Я люблю об искусстве говорить легко и свободно. Искусствоведы потом расскажут красиво, с умными оборотами, а я так, полушутя, как оно есть, я думаю.
– А кто эти люди? Это омичи или гости города по большей части?
– Омичи. Ну, наверное, и гости города попадаются. Я так понимаю, две фирмы возят – одни, другие. И это не так часто: допустим, раз в месяц, бывает искусствовед даже бывает, недавно из музея Врубеля искусствовед приехал.
– Ваш сын пошёл практически по вашим стопам, но вы ему отсоветовали заниматься чёрным металлом и скульптурой из металла.
– Да. Я, честно говоря, сам не знаю, как я вот так выскочил и живу. Поначалу, если бы мне сказали, что такой будет путь, я бы, наверное, отказался. Сын мне поначалу говорит: «Я, наверное, тоже в мастерскую, то-сё». Я ему говорю: «Сынок, не надо». А я не видел особо цвет, живопись для меня была закрыта, хотя всегда любил живопись, конечно же. А он прекрасно видит цвет и работает, всё нарабатывается у него. И когда он говорил, что «я в мастерскую – в скульптуру», я говорил: «Сына, не надо, это не твоя война. У тебя живопись получается – пиши, красиво. Живопись, кофе, сигарета». Он не курит, ладно. «Кофе, натурщица, то-сё, красота. А в мастерской скульптуры – это вот такой слой грязи, пыли и всего прочего такого».
– То есть здесь забота такая отцовская: не надо. Подальше от грязи!
– Забота отцовская, потом, я знаю его и знаю себя: он не сможет сделать то, что я, допустим. Все люди разные с рождения...
– Нет такой силы характера, чтобы бороться с этим металлом? Или не бороться, а соглашаться.
– Не знаю, можно было, наверное, это преодолеть. Но, честно говоря, я даже сильно не задумывался. Мне кажется, это не его – это мне так кажется. Во-вторых, он живописью занялся – и сейчас втянулся, двигается и идёт, ему нравится это путешествие, он ездит раза три в год на пленэр. Это и Грузия, в Риме он даже был на пленэре, слава богу, успел, они съездили, пока не начались никакие катаклизмы, и Подмосковье, и Переславль-Залесский. Это же красота, это расширяет кругозор – разная природа, разные люди.
– То есть в мастерскую к вам больше ни ногой?
– Нет, почему? В городской мастерской теперь он пишет, я сюда иногда захожу в гости.
– Я имею в виду в москаленскую. Там, где вы варите.
– Ну да, это его не касается. Он у меня занимается сейчас выставкой. Я приболел десять дней, но у меня сын, слава богу, вырос, он занимается экспозицией, перевозкой скульптур, проплатой за мастерскую. Раньше это всё мне было, а я это так сильно «люблю». Ему проще, он всё это онлайн как-то.
– Ваша правая рука.
– Да, секретарь, можно сказать.
– Какие работы вы решили представить в этом году – в свой юбилейный год – омичам?
– Честно говоря, работ пятьдесят старых – в смысле 50% – и 50% свежих работ. Там и рисуночки какие-то, наброски. Я люблю такой живой лёгкий рисунок, не сухой какой-то, отретушированный, чтобы штришок к штришку, а такой лёгкий, свободный. Что-то нарисовано было, что-то старое – 50 на 50, выставка юбилейная, 65 лет, поэтому можно и старое выставить. И старое, вы же понимаете – кто там в тот раз на выставке был? Было, не знаю, пятьсот человек, сейчас будут совсем другие люди.
– Кто-то не видел, конечно.
– Поэтому понятие «старое» тут не подходит.
– Я хочу немножечко углубиться в ваши корни: вы в кого-то пошли или вы такой самородок в семье? Потому что, насколько я знаю, вы познакомились с живописью вообще, когда какие-то журналы брали у знакомого.
– Да-да, сейчас расскажу вам.
– Кто-то вообще в роду рисовал?
– Нет. Папа у меня прошёл фронт, папа из Санкт-Петербурга, у меня там все тётки, братья. Станция Калище – это город Сосновый Бор, Ленинградская атомная электростанция. Там родина отца, бабушка там всю войну, а он всю войну воевал, всю войну прошёл. А после войны... В Сибирь, вы же знаете, для чего ехали? За свободой.
– Конечно. Все искали свободу.
– Вот и он тоже после войны за свободой сюда. И здесь родился я, маме уже было сорок. Отец умер – мне было десять лет. Наверное, в отца, скорее всего. А мама была у меня просто в коммунхозе, сидела счётчики проверяла, ещё что-то. Бабушка вообще неграмотная была, из местной деревни.
– То есть намёков никаких.
– Художественной школы не было, когда я учился в детстве. Когда уже окончил школу, тогда художественная школа появилась. А природные данные, конечно, у меня есть, я в школе тройки, четвёрки получал в основном по литературе – рисовал потому что. Раньше же печатной продукции было мало, и я рисовал Шукшина с книжек, какие-то репродукции в размере, и как-то это мне помогало выжить. Наверное, я с тех пор понял, чем надо заниматься.
– Творчеством.
– Да. Оно, думал, меня и вытянет. Потом я поступил в художественную оформительскую мастерскую, ничего не умел, учился. Раньше же всё делали художники-оформители. Ничего печатного не было вообще – соцобязательства, наглядную агитацию. Коммунисты придавали этому серьёзное значение – по колхозам, везде. Художественная мастерская была – несколько человек, и мы занимались: мазали это мазали, красили, красили. Я хотел учиться, хотя я уже хорошо получал за вот это дело, уже налажено всё было. И я пошёл учиться на сорок рублей, хотя сорок рублей я получил за пять лет один раз. Ну, один семестр я сдал без троек один раз. Я взрослый был, в двадцать три года поступил, поэтому я калымил. Художники – калымили по-всякому, где-то я работал на какой-то мебельной фабрике, помню.
– Прибыльное дело было в то время.
– Да, прибыльное. Все удивились, когда я пошёл учиться: зачем? Уже и так хорошо получаешь!
– Состоявшийся.
– То есть я сам себя содержал, мне было двадцать три года. Я окончил институт в двадцать девять лет. Ушёл в академ после четвёртого курса. Мы, знаете, таки люди, взрослые были: мне было двадцать три, товарищ на пару лет младше. И после четвёртого курса мы устали – неохота учить, вот устали. Взяли какие-то справки у знакомых студентов медицинского института, которые на практике, наштамповали какие-то справки – и пошли в академ по болезни, все втроём.
– Потому что вы свободу любили.
– Да, и пошли дальше. Я дом построил за этот академ. А когда вернулся на кафедру, мне Станислав Кондратьевич [Белов] говорит: «Да зачем тебе этот пятый курс. У меня лаборант как раз увольняется, иди лаборантом». Вот так я стал лаборантом. И заочно там как-то сдал.
– Дослужились до профессора всё-таки.
– Не такая уж это заслуга, но в трудовой у меня записано, что я год был профессором.
– Как вы считаете, сегодня с такой обстановкой в образовании – есть ли будущее у художника? Сегодня действительно, как вы говорите, открывай интернет, иди на двухмесячные курсы – и из тебя сделают художника.
– Художника из тебя никто не сделает, пока ты сам себя не сделаешь. Я пример скажу вам по худграфовской жизни. Допустим, четыре группы на худграфе, была одна группа, где учились чьи-то дети – и у них преподаватели были доценты, короче, самые главные преподаватели: завкафедрой рисунка Слободин, ещё кто-то. А в художники не вышел из той группы никто. Мы сами! Худграф – тут невозможно выучиться на художника, это не Академия, там нет часов, там ничего нет, и ты должен сам себя сделать. Геймран [Баймуханов], я, Виталя Сафронов – мы на вокзал каждый день! Я хочу рисовать натуру, наброски – и мы рисовали десять набросков в день, надо было сделать. А сейчас, думаю, они в семестр десять набросков делают. И никак у тебя рука не научится бегать по бумаге, когда не будет прямой связи, не думая ни о чём, она сама будет потом бегать по бумаге, но на это надо количество. Ну и, естественно, думать надо что-то. И что Геймран – он сам себя сделал, что я.
– Сейчас все расслабились.
– Да. Работать, думать, работать, трудиться. Халявы в искусстве нет. Есть удачные моменты, люди какие-то скользкие, которые как-то могут на гребень залезть. Но мы не такие, мы просто работаем. Да, моё искусство не классическое, не академическое, я не могу слепить этюд с натуры такой, как слепит «академик», в смысле – с академическим образованием. Но у меня другое. Когда я был в Переславле-Залесском, была мастерская на двух человек, и у меня был парень Остапченко, сейчас он академик, заслуженный художник России, не помню, из европейского города, а я год назад худграф окончил. Представляете, два человека... А у него четыре года художественного училища, скульптурное отделение, то есть лепил каждый день, и Академию ещё окончил – пять лет каждый день. У него девять лет стажа, а я студент худграфа, где мы ничего не лепили и натуры у нас не было, вообще ничего. Я ему говорю: «Что, как?» Он: «Ты знаешь, девять лет учился – а сейчас никак не могу забыть». Чтобы стать художником, надо это ремесло чуть-чуть забыть, чуть-чуть сломаться, чуть-чуть перестроиться в другую сторону, а не просто один в один лепить глазки, ушки, носик, фигурку. Но у нас этой школы не было, поэтому нам забывать нечего было, мы ничего не знали.
– Есть сейчас желание что-то создать такое грандиозное? Что бы вы вложили в эту скульптуру?
– Честно говоря, никакого такого желания, мысли такой нет: я хочу это – и начать это всё пробивать. Я ничего не пробивал в своей жизни, все мои скульптуры стоят случайно в Омске, ничего никогда не пробивал, ни с кем не решал. Не умею – и знаю точно, что если я это буду начинать делать, то я ничего не сделаю. Если, допустим, будет какое-то предложение, как говорят: «У вас есть что-то в городе поставить?» На выставке, допустим, сто работ, из них пятьдесят, может, тридцать – вот бери её, там виден сюжет, видна пластика. Что нравится – бери её, увеличивай в размере и ставь. Как-то так можно работать. А вот чтобы, знаете, объявляется конкурс на участие, на большие деньги, на какую-то идею, – я не участвую и не участвовал никогда.
– То есть можно сказать, что вы себя уже выразили как большой скульптор.
– Да нет, не то что выразил. Я думаю, что буду что-то делать, делать без конца. Художник – настоящий художник! – у него нет ни пенсии, ни когда он заканчивает работу. Он работает и работает, пока не помрёт. Это его религия, он ортодоксальный такой, понимаете? Он влюблён в своё дело, для него нет ничего важнее, и он этим будет заниматься, будут ему разрешать это или не будут, он всё равно будет грязью палочкой рисовать. Вот это настоящий художник.
– Ваша внутренняя потребность?
– Да, это не заработок. Хотя без денег, конечно, ничего не бывает.
– В одном из интервью вы говорили, что шар, который у нас стоит на площади возле гостиницы «Маяк», лучше бы убрать.
– Я повторюсь, конечно, я уже говорил лет двадцать, вот только год назад у меня другая точка зрения появилась, до этого я всегда думал – надо восстановить, потому что на это место претендовала конная скульптура, москвичи хотели Бухгольца там поставить, я на обсуждении был. Я был противник и за то, чтобы его восстановить. А вот последние год-два я так посмотрел – за тридцать лет его не сделали, при живом авторе его не сделали, это эскиз, это такое папье-маше стоит. Рельефы бронзовые там должны быть, а они просто краской нарисованы. Их должен слепить мастер, должен быть язык мастера там, их классно надо слепить – это целая история. И это будет уже не Трохимчук, от Трохимчука останется только шар, какая-то мысль. И поэтому моё мнение – всё-таки... Вообще не то чтобы я завидую Трохимчуку, я тоже хотел бы, чтобы, когда я помру, лет через тридцать бились за мою скульптуру и говорили: «Не отдадим убирать». Это приятно ему там осознавать. Битвы тридцать лет про это, разговоры. Мне кажется, надо это всё дело заканчивать.
– Но оставлять нельзя?
– Его так оставлять нельзя, а делать его по новой – это получается знаете, как? Кто-то должен делать чужую работу.
– Это уже что-то другое будет.
– А зачем это? Время изменилось, какая «Держава»? Как бы можно искать что-то другое, скульпторов много, пусть делают. Что-то другое найти, хорошее. Если там оно нужно, опять же. Нельзя топтаться на месте, мы постоянно бьёмся, у меня такое ощущение, что в Омске у нас какие-то битвы проходят, делёжка не убитого медведя. То Пётр I – где-то подарили, болтается, то, помните, при Леониде Константиновиче слепили где-то Колчака, уже как будто готовый. Потом Бухгольц – это же третий поставлен, до этого был первый от москвичей, потом Норышев где-то лепил в Екатеринбурге, говорят, уже готовая скульптура. Где? Что? Как?
– Какие-то постоянно интриги.
– Битвы, битвы. И мы тоже с вами, кстати, участвуем в таком, бросаем зерно раздора – потому что битвы всегда происходят в медиапространстве.
– Это характерно только для Омска?
– Я не знаю. Думаю, характерно: спилили тополь – скандал, тополь спилили! Или ещё что-то. Мне кажется, есть процент людей, которым сгодится любой повод, хоть что. Мусорницу переставили – и они на эту причину (почему её нельзя переставлять, ей надо на место!) – в кровь. Ну а когда скульптура – там ещё и деньги, если есть конкуренция, начинается какая-то делёжка денег. Но у нас до делёжки денег дело не доходит, мы похоронили одну, вторую, третью работу.
– Вы как-то сказали: «Из всех своих работ признаю только две: “Крест несущий” и “Дон Кихот”».
– Сейчас ещё знак «Двести лет Достоевскому» признаю. Моё.
– С чем это связано? Вы всё равно предвзято к себе относитесь?
– Нет, не предвзято. Просто эти работы более удачные, поэтому за них не стыдно. Есть ещё Дон Кихот такой... Не Дон Кихот, а такая фигурка – «ИТ Банк» помните? – стояла такая колонна, она там стояла. Сейчас её как будто хотят на здание «ИТ Банка» поставить, последние новости такие я слышал. Она вдалеке, образ такой колючий, он как-то ничего. Остальные – такие... Я Фемиду ставил к университету, это всё такое... к творчеству не имеет отношения.
– А «Дон Кихот» и «Крест несущий» – к творчеству?
– «Крест несущий» – это хорошая идея: это с какой-то точки крест, с какой-то точки там блок, давящий ему на плечо, плечо так деформировано. Он же у нас был в заключении.
– Там сюжетная линия полностью выстроена.
– Да, он же был у нас в заключении, это всё на него давило. Как я мог выразить, что это на него давило? Только вот таким блоком. Скульптура же, у неё ограниченная возможность, это не слова, где можно написать всё что угодно. Плечо одно я ему «сломал», вниз дал, плюс босым его поставил, и место ему нашлось отличное, мне кажется, прямо шикарное место. Видите, мне как-то повезло в моей жизни, я его делал – это была моя творческая работа на третьем курсе.
– Ваши студенческие годы.
– Просто лепил – не на выставку, не на курсовую. Я занимался скульптурой у Анатолия Петровича Юдина, там кружок был, и я просто его лепил, потому что тогда увлекался Фёдором Михайловичем. Потом объявили конкурс, был этот официальный конкурс. Меня туда не пустили, потому что я был студентом, потом этот конкурс «умер», потом через несколько лет опять возобновился, но нас тоже туда не пустили. Победил Голованцев, хотя у Трохимчука был получше, а я всё-таки свою поставил. Представляете, студенческая работа – и так повезло. Потом прошло двадцать пять лет, меня пригласили и сделал я эти двери. Про двери я расскажу, потому что это не просто дверь. Во-первых, Фёдор Михайлович написал в «Записках из Мёртвого дома», там есть текст – полторы страницы – как они, вольновыходящие, подобрали орла, у него было повреждено крыло, он жил где-то у них под кроватями, под шконками, они его кормили – он не ел, выходил только ночью, ни с кем не контачил. И вот он просидел там – ни с кем не сошёлся, ничего. В общем, не курица, это орёл, карагуш – степной орёл. Я такого степного орла нашёл в охотничьем магазине – чучело. Взял его. А двери – тридцать лет назад мы в Тобольске рисовали эти двери: там кремль, лестница, а с этой стороны тюрьма была, ей триста лет. Кстати, он там – Фёдор Михайлович – ехавши в Омск, был в том остроге одиннадцать дней. Мы первый раз приехали в Тобольск студентами – там ещё заключённые, мигалки всякие. Потом приезжаем, а их всех куда-то на север перевели, и за рубль мы заходили, а там ещё матрасы валяются, все дела, и вот мы по этим казематам за рубль ходили и рисовали там. У меня сохранился рисунок двери тюремной, и вот это всё соединилось, получился вот такой знак. Как можно было выразить свободу, мечту о свободе? Орёл, вылетающий через дверь. Тем более – им написанный. И дверь – не окно, а дверь, всё-таки человек и входит туда, и на свободу выходит через дверь, дверь основной элемент в этом. Так появился этот знак.
– Всё так сложилось.
– Так сложилось, да. И главное – прошло двадцать лет, и опять я его сделал. Я думаю, это сверху что-то мне.
– Такое может быть только раз в жизни?
– Думаю, да. Когда-то Евгений Александрович [Евтушенко], будучи у меня в мастерской (так сидели, все разошлись, мы остались вдвоём с ним), а тут эти железные мои скульптуры вокруг – почему он в стихотворении так проникся? Если его прочитать, не торопясь...
– Оно про вас.
– Оно не просто написано – знаете, набор слов и в конце написано «посвящается кому-то». Там фамилия, там всё. Он проник в суть происходящего. Мы сидим, вокруг эти железки, а он не двигался, он на коляске был, говорит мне: «Саша, а ты знаешь, что за тобой смотрят сверху?» Я-то особо в это не верил, но сейчас начинаю верить. Это было сказано лет восемь назад или семь. А сейчас начинаю верить: такие люди, может, больше нас видят. В крайнем случае – мне повезло. И с «Крест несущим», и со знаком. Да и вообще – сижу перед вами, дожил до пенсии и выставку сделал. Два зала. Как-то так захотелось мне сделать.
– Для взрослых – и для всех-всех.
– Я смотрю, Георгий Петрович [Кичигин] сделал на два этажа, Геймран [Баймуханов] сделал на два этажа. Думаю: ну ёлки зелёные!
– Чем я хуже!
– Хочу с ними быть вместе. Тем более в этих залах свет есть, там совсем другой вид, самому хочется сходить посмотреть, потому что всё это надо снять хорошо, второй раз для съёмок ты это не выставишь всё. И когда это будет – следующая выставка.
– И о чём она будет. Она будет уже другая, не о жизни и о любви, может быть, о чём-то другом.
– Название – дело такое. Главное – работа. А зритель один это видит в работе, другой – это. Я, честно говоря, к названиям равнодушен, могу сказать, что я даже их противник. Человек должен подойти и сам посмотреть, что это, что для него это. Он будет думать, что это для него, а если ему написать, что это, он и думать не будет.
– Я вас благодарю за беседу и желаю вам новых работ – удачных, свободных, креативных.
– Да, мы будем работать. И вообще художник – это же как актёр, ему нужен зритель. Певцу – цветы, овации.
– Вдохновляется человек.
– Художнику – да, мы, конечно, говорим, что зритель и всё прочее, но нет, он – сам. Ему десять художников, которые его оценят и скажут: «Да, он мастер», и для него это больше, чем тысяча простых людей, потому что уважение тех десятерых, кто понимает в этом деле, это дорогого стоит. И делает он это, потому что ему в кайф. И когда он перешёл грань и что-то сделал, как говорится – творец, сотворил что-то. Творец – сотворил одно, но всё-таки слова «творец» и «творчество» мы применяем и к художникам. И ты понимаешь, что тут ты попал в десятку – десятка, девятка, единичка, попадание очень редко. Да, мастерство, да, авторство. Но попадание – не так просто.
– Признания тогда большого. Пусть ещё кто-то скажет, что действительно попали. Спасибо.