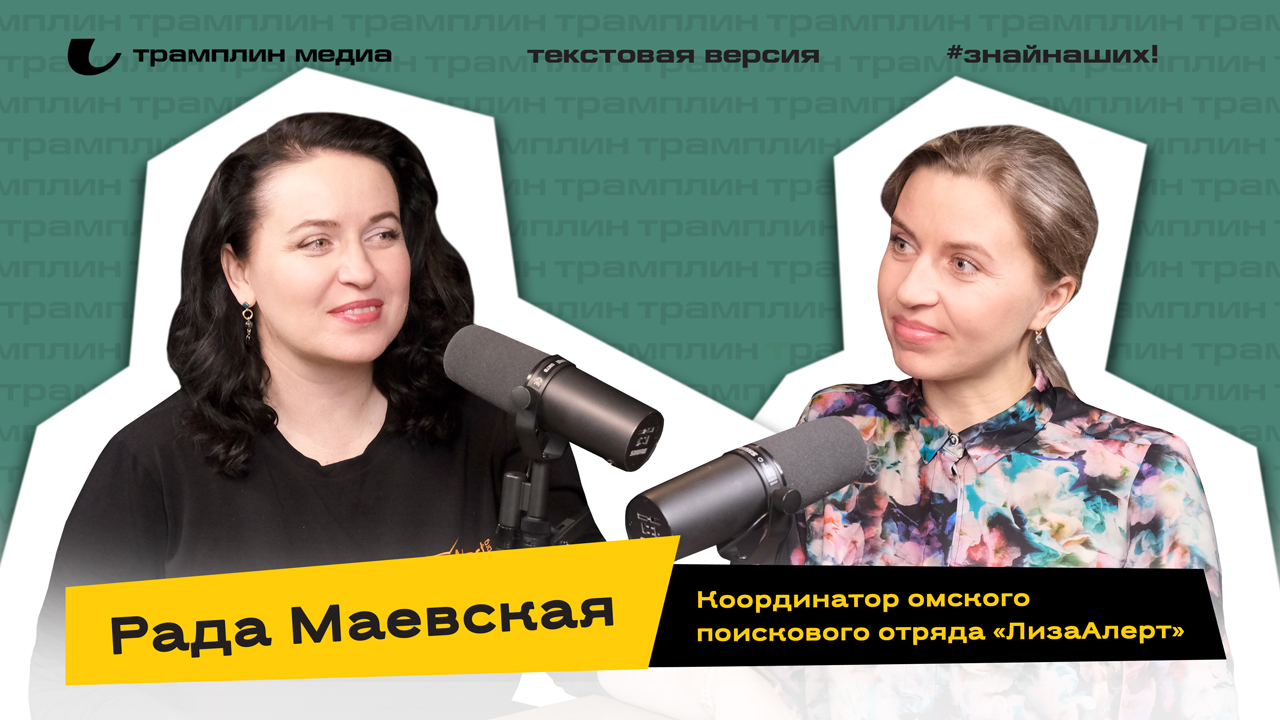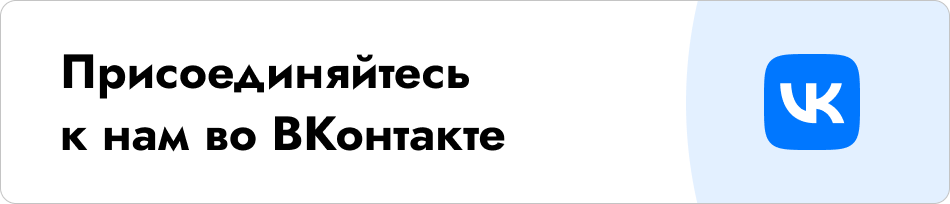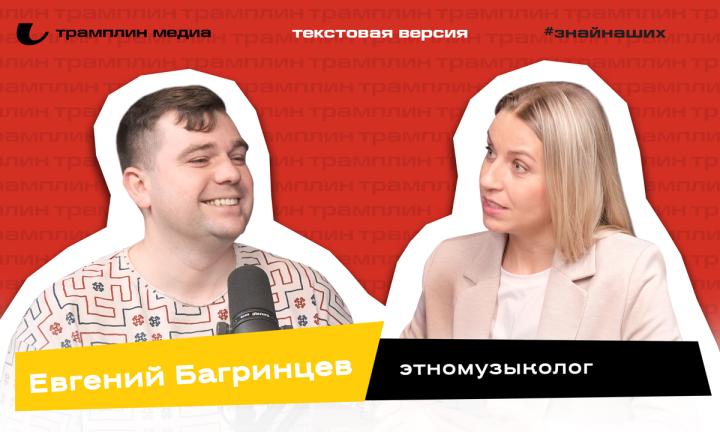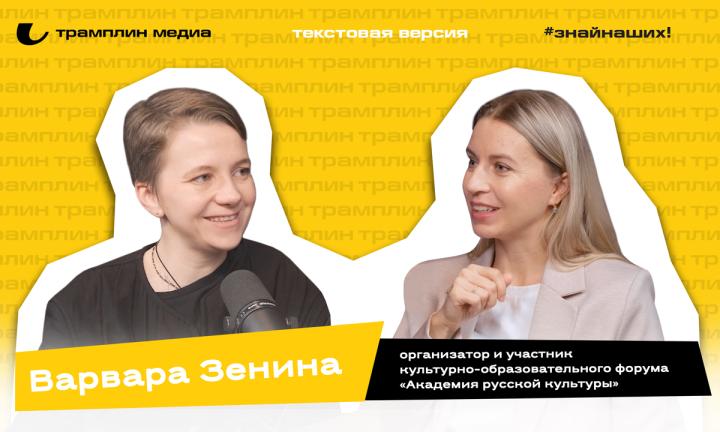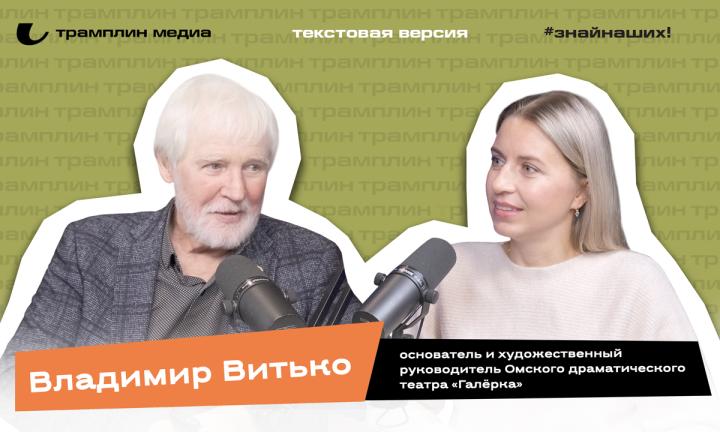Дата публикации: 6.04.2024
Для тех, кто любит читать, текстовая версия подкаста «Знай наших!» с человеком-альтруистом, который не жалеет сил и времени, когда речь идёт о поиске пропавшего - координаторе омского поискового отряда «ЛизаАлерт» Радой Маевской.
– Рада, здравствуйте. Статистика вашего поискового отряда за 2023 год такова, что было подано 804 заявки о пропавших, это верно?
– Да.
– Если перевести на сутки, то это где-то в среднем – два человека в сутки. По мне так это очень много, даже один человек в год...
– Я вам могу сказать, что это только те, кто к нам обратились за помощью, потому что понимали, что мы существуем, что нам можно подать заявку, либо это люди, которые обращались на 112: у нас есть соглашение с этой службой, нас также подключают к поиску пропавших, о которых заявили на 112. Но на самом деле заявлений о пропаже в полицию поступает гораздо больше.
– То есть эта цифра может быть даже в два, в три раза больше по Омской области?
– Да. К сожалению, официальная статистика закрыта, мы не можем её вот так легко получить, но если мы говорим про открытые цифры, которые МВД заявляло, то в среднем по России в год поступает 180 тысяч заявлений о пропаже людей.
– Как нам разобраться – это много, мало в сравнении даже с пятилетней давностью?
– Это много. Если мы говорим про динамику, то мы не можем сказать, что в принципе стало больше людей пропадать или меньше – мы видим динамику поступления заявок в наш отряд. И это, конечно, где-то двукратный рост год к году, но только потому, что узнаваемость отряда растёт. Это то, что к нам приходит, но если мы говорим о статистике в принципе – мы общались с представителями МВД, следственного комитета, то они говорят, что нет увеличения количества пропавших, нет увеличения количества преступлений относительно несовершеннолетних. Мы можем говорить о том, что в принципе и в 80-е, и в 90-е – в 90-е, может, чуть больше взрослых пропадало по понятным причинам – но цифры примерно одинаковые.
– То есть нет никаких улучшений, так скажем, в поисковой работе.
– Сейчас технически нам проще искать с каждым годом, потому что у нас появляется больше технических возможностей – и у нас, и у полиции появляется год от года гораздо больше технических ресурсов. Но влияет ли это на количество пропавших? Пока не влияет.
– А на количество найденных?
– На количество найденных, безусловно, влияет. И, наверное, самое главное – мы понимаем, что работаем по профилактике – мы постоянно рассказываем, проводим лекции, работаем с крупными торговыми сетями и сетями АЗС, размещаем информацию на стендах, памятки о том, как собраться в лес, что делать, если ты потерялся, если у тебя близкий пропал. Сейчас у нас запущен проект с хоккейным клубом «Авангард», когда в дни матчей на арене также показываем и текущие ориентировки – на действующих пропавших, и какие-то памятки. Но это игра вдолгую, это то, что будет менять культуру несколько лет. Мы это видим по отношению к пропаже детей – если мы сравним десятилетнюю историю и текущую, это вообще два разных мира. Например, десять лет назад, когда пропадал ребёнок в лесу, это не было поводом для федеральных новостей об этом сообщить, это даже для региональных новостей обычно не было каким-то поводом. Помните ли вы – как представитель СМИ – поиск девочки Саши несколько лет назад? Скорее всего, нет. Я жила в это время в Омске и об этом вообще не знала: о том, что у нас терялась девочка, её искали несколько дней в лесу, кто об этом помнит?
– Это та девочка, которая шла, и полицейские просто увидели стаю птиц, которые летели.
– Да. Про эту историю знают только потому, что про неё периодически вспоминают именно благодаря вот этому факту. Но в том момент, когда это происходило, об этом особенно никто не рассказывал. Это просто было такое отношение общества, это было где-то за периметром внимания. Сейчас любой ребёнок, который пропал в лесу, это сразу повышенное внимание, это резонансный поиск, это сотни и тысячи людей, которые приезжают искать, это федеральные СМИ, которые привлекают к этому внимание, это пресс-секретарь президента, который отчитывается о проведённом поиске, это вообще другая история.
– Это история с Колей Бархатовым нам доказала. Почему так произошло?
– Потому что меняется отношение к этому вопросу, потому что понимают – это не норма, это действительно происходит в XXI веке рядом с нами, это страшно, нужно помогать, потому что нет ни в одной стране мира, ни у одних сотрудников полиции достаточно ресурсов, чтобы однозначно найти ребёнка (или даже взрослого) в лесу. Это та история, где искать надо всем миром и лучше, чтобы ты понимал, как это делается.
– Есть ли какой-то среднестатистический портрет пропавшего человека?
– Он есть среднестатистический у нас, но он может отличаться от того, который есть у полиции. Мы понимаем, что у нас есть несколько подгрупп пропавших. Мы, когда свои методики прорабатываем, дорабатываем, всегда опираемся на собственный опыт, на мировой опыт – и мы всегда аккуратно собираем статистику, выводим закономерности, отслеживаем результаты и результативность поисков вплоть до того, что мы даже себе помечаем, где именно, на каком расстоянии был найден пропавший. Это всё идёт потом в обработку, в аналитику. Так вот, для нас есть несколько категорий, с которыми мы просто по-разному работаем. Мы понимаем, что больше всего в России теряется мужчин старше 30 лет. Просто потому что. Это не значит, что им больше опасность угрожает, нет. Это значит, что больше мужчин, чем бабушек и детей, склонны к тому, чтобы не сообщать, куда они пошли и зачем.
– По этой причине. А вообще есть какие-то ещё причины, по которым пропадают люди?
– Обычно это – сейчас детей уберём в сторону, про детей отдельно расскажу – если про взрослого человека, это либо несчастный случай, либо внезапное ухудшение здоровья, это имеет корреляцию с возрастом, но от этого не застрахован никто, у нас есть пропавшие, которые в 30 лет с инсультом уезжали по скорой и их теряли родственники, а есть люди в 80 лет, которые уходили погулять куда-нибудь. Это вообще такие истории.
Так вот, внезапное ухудшение здоровья, несчастный случай, заблудился, не может выйти (это мы сейчас говорим про природную среду) и осознанный уход куда-то по разным причинам, такое тоже бывает.
– Это типа забастовки несовершеннолетних, которые, например, пубертатного возраста?
– И совершеннолетних тоже. Это не зависит ни от статуса, ни от возраста, ни от пола. Так делают женщины, так делают мужчины, так делают бабушки, которые не хотят общаться со своими родными. У нас есть такая категория: когда мы выясняем, например, что с человеком всё в порядке, мы его нашли, он говорит: «Ребята, я не терялся, я просто не хочу общаться со своей семьёй». Он имеет на это право. Мы говорим «ок» и закрываем заявку. Мы говорим: «Пожалуйста, сообщите в полицию, что вас не нужно искать, дойдите до ближайшего отделения, неважно, где вы находитесь, напишите, что с вами всё в порядке, розыскное дело закроют».
– А вы просите, чтобы он сообщил родственникам?
– Мы никогда на этом не настаиваем, это их личное дело. Наше дело – убедиться, что с ним всё в порядке, мы сообщаем родственникам, что мы закрыли заявку, потому что...
– Найден, жив.
– Да. Потому что – по нашим данным – человеку помощь не требуется, дальше можете обратиться к полиции за подробностями. Это тоже достаточно большая категория людей. Нельзя заставить людей любить близких или общаться. Это могут быть разные вещи, это вообще не наше дело. Более того, когда поступает заявка на ребёнка и мы выясняем, что его просто забрал второй родитель, который не лишён родительских прав, для нас это тоже основание для прекращения поиска и мы тогда говорим: «Ребята, это в полицию, это не наша задача».
– Разбирайтесь сами.
– Да. Мы не лезем сюда.
– Как вести себя человеку, который потерял, – и который потерялся? Вот это две стороны, получается, но мне кажется, что так или иначе чувства, эмоции могут быть схожими. Или нет?
– И там, и там может возникнуть паника. Что делать, если мы потеряли человека? Первое – нужно сразу, незамедлительно обратиться за помощью. Это не стыдно, это не страшно, вас за это никто не осудит и не накажет. Например, иногда человек говорит: «Как же я пойду писать заявление в полицию, а ещё трёх суток не прошло». Это миф, этого не существует.
– Достаточно устойчивый миф.
– Любой человек (не обязательно родственник). Я могу подать заявление о пропаже совершенно постороннего мне человека, например коллеги. Коллега не вышел на работу, мы ему звоним – не дозваниваемся. У меня такого не было, но вообще такое бывает. Мы не можем дозвониться, коллега не выходит на связь. Мы знаем, что он живёт один, он не вышел на работу, он очень ответственный, что-то пошло не так. Мы съездили домой, посмотрели, там никто не открывает. Я уже могу пойти и подать заявление в полицию на его розыск, потому что человек пропал.
– Есть явные признаки...
– Внезапной пропажи, да. Либо, если это кто-то из наших близких, особенно пожилых, которые должны были вернуться домой, но не вернулись – это основание для того, чтобы начать искать человека, позвонить на 112. 112 сразу сообщит в полицию, сообщит нам, сообщит в другой поисковый отряд. Всем заинтересованным службам он сообщит, и мы начнём поиск. Если через час ваш родственник придёт и с ним всё будет в порядке, мы вместе с вами порадуемся, выдохнем и будем искать других людей. Но вот это время с момента пропажи – чем быстрее нам об этом сообщат, тем выше вероятность быстрого успешного завершения поиска. Тем на меньшее расстояние может уехать человек.
– Понятно. Каков алгоритм: человек сообщает о пропавшем родственнике или знакомом в полицию, а полиция моментально в поисковые отряды сообщает?
– Полиция вообще не сообщает. То есть нет такого правила, что полиция сообщает в поисковый отряд, у них нет такой обязанности. У нас могут быть с ними соглашения, у нас есть соглашения с СК, они нас подключают при тех поисках, в которых они видят смысл нашего участия. Но это плохая история – отдавать это на откуп кому-то. Мы этот вопрос системно решаем так: у нас есть соглашение со 112, это телефон экстренной службы, на который обычно обращаются, когда требуется помощь. С этими службами у нас заключено многостороннее соглашение, что они сообщают одновременно – сначала сообщили в полицию по специальному каналу, потом сообщили нам или в другой поисковый отряд, и мы уже все совместно подключаемся к поиску. Мы всегда будем на связи с полицией, мы не работаем без уведомления полиции о том, что мы привлекаемся к поискам, мы всегда уточняем некоторые детали. Из восьмисот заявок, которые мы получили в прошлом году, десять процентов мы отбраковали, потому что там родственники/заявители не готовы были обращаться в полицию. «Вы поищите, но в полицию мы не пойдём». Для нас это признак того, что, во-первых, может быть какая-то иная цель поиска этого человека, может быть, это алиментщика ищут...
– Коллекторы.
– Коллекторы, да. Очень часто они пытаются. Но сейчас они уже понимают, что бессмысленно, а вот в первые годы, конечно, были попытки.
– Использовать.
– Да, поэтому мы всегда говорим: без заявления в полицию по взрослому человеку мы не работаем. По ребёнку мы можем запустить заявку и попросить сразу сообщить об этом в полицию, мы в любом случае будем вместе с полицией это делать.
– Когда «ЛизаАлерт» зашла в регион, уже работал «Доброспас», тоже поисковый отряд.
– Да, он был в регионе, он много-много лет уже. Когда я подала заявку о вступлении в отряд, я ещё не знала, что в Омске нет «ЛизаАлерт», мне казалось, что это такая большая организация, как так. И я в «Доброспас» подала заявку и в «ЛизаАлерт». Но в «Доброспасе» в тот момент была другая команда, не та, которая работает сейчас – у них было затишье, мне даже никто не ответил, у них ничего особенно не происходило. Потом сменилась команда, пришли более активные люди, и опять они запустились.
– Наличие двух или трёх отрядов (в каких-то регионах может быть ещё больше) мешает или наоборот – проще искать?
– Разнообразие – залог эволюции. Чем больше людей, которые ищут, тем лучше, если они не устраивают из этого соревнования, которые мешают поискам. У нас же задача – найти человека. Мы общаемся с ребятами из «Доброспаса», мы очень часто работаем по одним и тем же поискам, просто у нас свои методики, у них – свои методики, мы часто обмениваемся информацией в интересах поиска. Например, мы видим, что они используют для ориентировок те фотографии, которые мы обработали, почистили с помощью искусственного интеллекта, чтобы человек соответствовал возрасту. Пожалуйста, мы всегда открыты, мы часто обмениваемся информацией, и это нормально. Это здоровая работа двух отрядов в регионе. Бывает по-разному, но в Омске у нас с этим проблем пока не возникало.
– Есть ли истории, которые вас задели, зацепили, которые никак не стереть из памяти?
– Они есть. Не про все я могу рассказать.
– Ну, про самые-самые.
– Например, история, которая точно навсегда в памяти, это история погибшего подростка. Отряду было почти два года, нет... чуть-чуть больше года, это был февраль следующего года, за тем, когда мы появились. Совершенно случайно от наших пилотов-добровольцев я узнаю о том, что сейчас в аэропорту «Омск Центральный» готовится самолёт на поиск пропавшего подростка. Я говорю: «Как так, у нас нет заявки». Если уже вторые сутки идёт поиск, а зима, февраль, счёт идёт на минуты. Что-то не так? Но нет, оказывается, что поступила заявка накануне на парня, который пропал в метель. К сожалению, он был найден погибшим, потому что не привлекли все необходимые для поиска ресурсы, которые нужно было. Он был в оранжевой куртке на белом снегу, его с воздуха можно было даже коптером быстро и легко найти – и, возможно, он был бы жив. Это история о бессилии, когда ты узнаёшь о поиске слишком поздно и уже ничего не можешь сделать. И этот замечательнейший 15-летний подросток просто замерзает в лесу... Не в лесу, он в поле замёрз, а его легко было найти.
– Как он туда попал, почему?
– Заблудился вечером. Он звонил родным – не дозвонился, он звонил друзьям сказать, что он заблудился, но ему не поверили. Там совершенно нелепая череда событий, а любая пропажа – это какое-то нелепое на первый взгляд стечение обстоятельств. Это был совершенно чудесный подросток, которому друзья не поверили, что он заблудился, и не вызвали помощь. Домой он не дозвонился и замёрз. А искать его стали очень поздно и не привлекли те ресурсы, которые позволили бы его найти живым и быстро.
– Знаете, я сейчас вспомнила: разбирали вопрос, как вести себя тем, кто потерял. А как вести себя тем, кто потерялся? Может быть, кстати, на этой истории – что помешало мальчику, мы теперь поняли.
– Он не знал, что надо было позвонить в 112, а не друзьям.
– А не дозваниваться до родителей, кто не мог взять трубку.
– Да. Первое, что нужно сделать, – позвонить в 112, потому что вы не знаете, сколько у вас будет связь, если вы где-то в лесу. Вы не знаете, когда сядет батарейка телефона, это такая малопредсказуемая история. Но если вы сообщите на 112, то, например, у нас в отряде есть специальная служба, специальное подразделение, мы его называем «лес на связи», это люди, которых очень долго и тщательно учат локализовать человека, если у него при себе есть мобильный телефон, не техническими средствами. Потому что, к сожалению, законодательство запрещает и нам, и полиции определять местоположение человека по телефону, даже если он нам говорит сейчас в трубку: «Ребята, я замерзаю в сугробе, я не знаю, где я, мне нужна помощь». Ни полиция, ни уж тем более мы не можем вообще ничего с этим сделать. У нас есть прямо отдельная статистика в нашем дашборде по погибшим людям с телефоном – ежегодно. В Омской области за прошлый год таких было восемь. В России их сотни каждый год.
– Это потенциально там можно было бы их спасти.
– Конечно. Мы понимаем, что пока это недоступно, но у нас есть другие средства, наш человек звонит пропавшему – и путём задавания правильных вопросов в правильной последовательности он может локализовать этого человека. Они учитывают такие факторы, как в какую сторону сейчас плывут облака, с какой стороны у вас находится солнце, а когда вы шли, где было солнце – сзади, спереди. Вот эти все вопросы. Они сперва понимают, какой заряд у телефона: если у тебя два процента, то будет очень мало, но очень точных, самых важных вопросов. Если двадцать процентов, то вопросов будет больше. Наша задача – понять, где человек находится, и проинструктировать его. Либо «оставайтесь на месте, мы к вам придём, пожалуйста, никуда не уходите». Либо мы понимаем, что он находится совсем рядом с краем леса и, например, он стоит на какой-то дороге, тогда мы ему говорим: «Идите так, чтобы солнце или луна сейчас были позади вас. Идёте по этой дороге примерно через 300 метров у вас будет перекрёсток, остановитесь там, мы подъедем туда». И мы уже тогда наводим на пропавшего ближайшие службы – полиция, лесники, наши ребята, если есть.
– Такие люди есть в омском отряде?
– Есть. Они есть, но на самом деле неважно, где он находится, отряд – это такая огромная машина, которая работает независимо от того, где вообще происходит пропажа. Нам, по сути дела, на месте нужны только те, кто ногами будет ходить, это очень небольшая часть от того, что нам нужно. Большинство поисков закрываются не ногами – головой – не выходя из дома. Восемьдесят процентов поисков закрываются без выезда, никто даже не выезжает на место, за счёт того, что правильно собирается и обрабатывается информация.
– Мне интересен такой момент: если есть запрет на локацию, на распознавание, где человек, то это же на самом деле очень большая проблема, которая могла бы решить ещё больше. Как реагировать на это?
– Мы уже много лет работаем с этим, пишем кучу писем, выступаем везде – на всех комитетах, где это может быть. Единственное послабление, которое было внесено в этот закон, касается несовершеннолетних. Если пропал ребёнок, то тогда не нужно проходить огромную многодневную процедуру. По взрослому как – если пропал человек, для того, чтобы определить его местоположение, сотрудник полиции, который ведёт это дело, должен написать обращение на имя своего начальника отделения, тот должен его подписать в будние дни, в рабочее время. Потом это должно поступить к судье (в будние дни, в рабочее время), который это дело рассмотрит, вынесет решение о том, что да, разрешаю получить эти данные. Потом вот это всё уедет в другой город, этот запрос уедет в другой город, у нас там, насколько я знаю, одно место в России, один центр, где обрабатываются эти данные, и там – в порядке очереди, несколько дней, иногда две недели – эти данные будут обрабатываться. А человек будет замерзать в лесу.
– Он уже замёрз.
– Да.
– Кому это нужно? Как это всё сломать и на человеческий уровень перевести?
– Я вам больше скажу. У нас могла бы быть техническая возможность, мы же используем это. У нас есть пилоты-добровольцы с самолётами, с вертолётами, и во всём мире используются такие истории, как мобильные станции, мобильные вышки – когда мы можем взять на вертолёт, условно говоря, эту вышку и этой вышкой, даже если человек не на связи, поймать сигнал и определить местоположение телефона, даже если человек лежит без сознания, но телефон ещё включён. Но – нет.
– То есть мы не доросли до этого ещё.
– Вероятно, нет. Наше государство, вероятно, не доверяет нам, своим же собственным сотрудникам. По несовершеннолетним – да, вот эту дорожку сократили, можно получить достаточно оперативно. Полиция может получить. Но это будет один день, например.
– Всё равно это много.
– Всё равно много, да. Это всё равно не решает проблему. Плюс, если смотреть на эту проблему системно, там нужно не только решение, разрешение, там нужно ещё чтобы операторы связи дооснастили своё оборудование, свои вышки, ещё одним оборудованием, но пока их не обяжут это делать – им это не надо, потому что это расходы. Ну, чтобы локализация была более точная. Потому что, даже когда эту локализацию приносят, а у нас человек пропал в лесу, то у нас там радиус будет десять километров. Пожалуйста, десять километров, ищи – не хочу.
– Выводите добровольцев.
– Да. Это невозможная зона поиска.
– Десять километров?
– Она возможная, но это десятки людей, это несколько дней поиска.
– Это то, что было с Колей?
– Ну да. Потому что это был ребёнок, это была сложная местность, это была не очень предсказуемая история реагирования ребёнка. Наша задача была – не напугать его, не загнать в болото, а вывести, выманить, по большому счёту. Так и получилось.
– А помимо этой проблемы – запрета на локализацию – есть ли ещё какие-то такие острые моменты, которые мешают вам в работе?
– Понятно, что где-то сейчас есть ограничения по использованию беспилотников (по понятным причинам). Это существенно осложняет поиск в природной среде, потому что беспилотники мы используем давно, плотно, и они действительно находят пропавших.
Если мы говорим про законодательные истории, то, наверное, вот эта – самая ключевая, есть ещё история со взаимодействием с больницами, это слишком длинная история, чтобы её втянуть в подкаст, но по большому счёту так. Есть регионы, где больниц немного и взаимоотношения налаженные. Есть такое узкое место как врачебная тайна, и в некоторых регионах или в некоторых больницах некоторые сотрудники считают, что по телефону в справке сказать о том, что человек находится у них, – это уже нарушение врачебной тайны. На самом деле – нет. Мы же не спрашиваем диагноз, мы иногда говорим: «Давайте так, нам не нужны фамилия, имя, вы скажите, пожалуйста, вам сегодня привозили бабушку за шестьдесят в красной куртке?» И всё, нам этого будет достаточно, чтобы отправить туда родственников, проверить, да или нет. Например, психоневрологический диспансер – это отдельная история, тоже в разных регионах решаемая по-разному. В Москве у нас есть соглашение, по которому нам передают информацию. Не автоматически, но есть определённый круг людей, пофамильный список, которые имеют право уточнять, поступал ли сегодня человек по психиатрической скорой. Потому что наши бабушки, которые с деменцией, с неврологическими нарушениями, тоже туда попадают. А это та категория, которую мы очень часто ищем. В Москве нам об этом сообщают. В Омске – нет. Ни полиции, ни нам, то есть мы будем зимой в минус тридцать бегать по улице и искать эту бабушку, а она будет уже доставлена туда. Как мы эту историю обходим? Нам не могут сказать эту информацию, родственникам тоже не могут, но мы достаточно быстро доставляем туда на проходную ориентировки и отправляем ближайшего родственника с документами – ему имеют право сообщить. Если так получается, всё совпадает, то родственнику сообщают, а родственник сообщает уже нам. Но не всегда родственник может поехать, иногда родственник – это второй пожилой человек, который не выходит из дома. Всё, шах и мат, мы ничего не можем, и бабушка будет там, а мы будем на улице в минус тридцать искать её ночью. Полиция будет, мы будем.
– Мне хочется немного о вас поговорить. Как вы пришли в такую сложную сферу? Не всегда ведь хороший исход, и сам процесс поиска сложный.
– Мы сюда приходим не за позитивными эмоциями. У каждого своя потребность. Но если говорить конкретно про меня, то мне было очень важно найти такое приложение сил, когда я что-то могу изменить. Я как раз из числа людей, которым постоянно чего-то не хватает, которым не нравится, как всё устроено. Энергичные люди, которые всё время чем-то недовольны. И мне очень важно, что я не просто проявляю недовольство, а ищу, как эту историю можно решить. И здесь я нашла системную историю, на которую я могу влиять, люди могут влиять; я понимаю, как выстроить структуру, которая сможет влиять на эту историю. Целью создания в Омске отряда была задача поменять статистику по выживаемости пропавших людей. Я попала на форум «ЛизаАлерт» в семнадцатом году, ещё в Омске не было отряда, я помогала в поисках в... назовём это в информационно-аналитическом отделе, когда неважно, где ты находишься. Я работала с поисками по всей России. И я попала на форум и увидела статистику по регионам, где есть отряд и где нет отряда. Когда я эти проценты перевела в людей, меня это так впечатлило, что я поняла, что я готова потратить несколько лет, кучу времени и сил на то, чтобы в Омске появился этот отряд – для того, чтобы мы вот эту статистику тоже могли поменять. Когда я понимаю, что мои усилия приведут к результату, я в эту историю иду.
– То есть вас смело можно назвать основателем, главным человеком, который привёл сюда, в Омский регион, «ЛизаАлерт».
– Да, в Омском регионе. В этом году я сдала полномочия руководителя омского подразделения, потому что почти семь лет, такой срок, когда ты волей или неволей начинаешь выбиваться из сил и тебе нужно где-то перераспределить собственные ресурсы – на работу, на семью, на какое-то своё пространство. Я считаю, что руководителей надо периодически менять, потому что иначе происходит вот этот застой. Поэтому я уступила место более молодым, более энергичным людям.
– Уже воспитанным вами, да?
– Отчасти – да. Которые уже сейчас будут делать это как-то по-своему. А я как координатор поисков буду брать определённые поиски и искать людей просто как доброволец.
– Как вы боролись с тем чувством, что вы не успели, не смогли, что-то помешало?
– На моё счастье, мне неизвестны случаи, чтобы из-за моей ошибки погиб человек. А как бы я реагировала, если бы понимала, что я ошиблась и из-за меня погиб человек, я пока не знаю. И надеюсь, что никогда не узнаю.
Что не успели – жалко, но эта история – эмоциональная, но я понимаю, что мы не всесильны и мы не можем сто процентов поисков закрыть собой. У нас ресурс ограничен. В моих силах сделать так, чтобы этого ресурса было больше – за счёт того, что сегодня мы с вами разговариваем, кто-то после этого подкаста узнает, что так можно помогать, придёт в отряд и будет помогать. Очень много людей к нам приходит, посмотрев какие-то вот такие интервью, и это классно, это увеличивает ресурсы. Делай, что должно, и будь что будет. Если мы с собой честны, если мы понимаем, что сделали всё, что мы могли, всё, что от нас зависело, но так получилось, что человек не найден или погиб... Так тому и быть.
– То есть не сильно пускаться в эмоции.
– Да.
– А вы плакали когда-нибудь?
– Конечно. Вот после этого парня, который погиб, я плакала. Наверное, ещё после двух поисков. Это, как правило, история, когда обидно, что так получилось, дурацкие обстоятельства, которые не позволили найти человека, ребёнка, это всегда безумно больно.
– Много ли сегодня приходит добровольцев?
– Нет. Сейчас меньше, чем раньше. Отчасти это связано с тем, что в условно благополучные 2017–2018 годы у людей было меньше хлопот, чем сейчас. Была более стабильная экономическая ситуация, людям легче давались те деньги, которые они зарабатывали, они могли позволить себе заниматься каким-то таким системным хобби, назовём это так. Это ресурсоёмкая история. Сейчас люди больше сосредоточены на том, чтобы как-то удержаться, сохранить себя.
– Удержаться на плаву.
– Но, кстати, много людей стало приходить как раз для того, чтобы сохранить себя, своё психическое здоровье, потому что очень немного мест, где ты можешь приложить свои усилия и получить очевидную пользу, понять, что ты действительно помогаешь. На самом деле большинство людей хотят и могут помогать, им просто надо помочь помочь, им надо рассказать, как это можно делать, а у людей эта потребность есть. И когда ты им показываешь, как это можно сделать, они очень охотно на это откликаются. В текущей ситуации, когда всем тяжело по разным причинам, есть место, где у нас нет внутри деления ни по политическим взглядам, ни по религиозным, ни по социальным. Вообще неважно, за или против, кто ты. Ты приходишь для того, чтобы искать, ты встаёшь рядом с человеком, который пришёл искать – и я очень мало знаю сейчас мест, где можно вот эти границы стирать и убрать за скобки весь тот дурдом, который происходит. И люди приходят. Они не спрашивают друг друга, что мы думаем по поводу повестки, у них есть общая задача, они идут её решать. Они делают благое дело, у них есть задача – и они дают выход своим потребностям помогать другим людям. А она есть очень у многих.
– Вы сегодня маленько отходите, можно сказать, от прямого процесса, контролируете, рядом оберегаете, так скажем. А вот немного времени назад, если взять и посмотреть, вы ведь также и работали, семья, ребёнок.
– А все так.
– Все так?
– Да. Это у всех нагрузка, не только у руководителя отряда. Просто у руководителя её чуть больше по разным причинам. Но есть просто поисковики, которые, например, раз в месяц приезжают на поиски, а есть поисковики, которые ездят на каждый поиск много месяцев подряд.
– Как найти это время?
– Я не знаю, какая магия тут работает: когда ты начинаешь этим заниматься, у тебя как-то тайм-менеджмент сразу образуется. Может быть, потому что ты начинаешь вынужденно расставлять приоритеты.
– А как человеку сказать, например начальнику, что поступил сигнал о том, чтобы найти человека, я готов отпроситься, отпустите.
– Мы обычно не рекомендуем так делать. У нас есть раз в месяц встречи, которые мы проводим и рассказываем про отряд. У нас всегда есть анонсы в группах.
– Конечно, собрать людей – это тоже труд.
– И мы говорим: каждый месяц вы можете прийти, мы вам расскажем про отряд, как можно помогать, вы позадаёте вопросы, примете для себя решение – вам это нужно вообще или нет. Некоторые приходят, слушают, потом несколько месяцев смотрят, наблюдают, а потом случается какой-то поиск, который не оставляет их равнодушными – бабушка на ориентировке, похожая на твою бабушку – и ты встаёшь и едешь ночью искать, потому что надо бабушку найти. Мы говорим: всегда нужно соблюдать баланс, то есть поиски не должны мешать семье, работе и так далее. Безусловно, когда ты погружаешься в эту историю, ты всё равно часть ресурсов оттуда забираешь, часть внимания, и на это реагируют по-разному. Я знаю истории, когда из-за этого распадались семьи, к сожалению. Но мы понимаем, что это не единственная причина. Ещё больше историй я знаю, когда образовывались семьи, потому что люди, близкие по духу, встречаются на поисках, они понимают, что у них примерно одни ценности – и они создают семьи. У нас есть отрядные дети, которые родились у людей, которые познакомились на поисках.
Отвечая на вопрос: это непросто, но это возможно, примером тому люди, которые больше пяти лет совмещают поиски, семью. У нас есть девушки, у которых пять детей, у нас есть в Омске очень активный парень-поисковик, у которого четверо детей – и как бы это не мешает, всё ок, он не бросает и говорит «дальше без меня», он находит очень ловкий баланс между семьёй, работой и поисками, всё нормально.
– Это тоже навык.
– С новичками – мы называем так людей, которые только-только пришли – у нас есть целое новичковое направление, и во главе направления стоит Женя «Гамма», огромной души человек, она очень нежная, заботливая, она всегда присматривает. Если она видит, что у человека случается какой-то перекос, бывает так, что человек начинает, забросив всё (это увлекательная история!), ездить на поиски, и мы понимаем, что у него уже точно начинает что-то страдать – она его остановит, поговорит, скажет: «Давай ты сейчас немножечко опять вернёшься на учёбу, на работу и будешь приезжать, например, раз в неделю». Мы тоже стараемся помочь эту историю как-то отрегулировать.
– Вы следите, чтобы и не выгорел человек.
– Конечно. Нам интереснее, чтобы человек с нами был, может быть, не каждый поиск, но достаточно долго, потому что чем дольше человек приезжает на поиски, тем больше опыта у него появляется, больше насмотренности, больше навыков, и нам интересно, чтобы он был долго. Но мы понимаем, что он не будет с нами долго, если у него будут страдать работа, семья и прочие аспекты. Поэтому мы хотим, чтобы у него всё было хорошо везде.
– Чего бы вы хотели пожелать омичам? Раз уж мы говорим об омском поисковом отряде.
– Я хочу, чтобы люди были внимательны друг к другу, чтобы мы понимали: помочь может каждый, просто потому что мы будем понимать, что чужих людей – совершенно чужих – не существует. Такой христианский нарратив о том, что любой человек, который на твоих глазах попал в беду, ему нужно помочь – просто потому что это другой человек. Не потому что тебя это делает каким-то хорошим или тебя осудят за то, что ты не помог, а просто потому, что если мы не будем друг о друге заботиться, то кто о нас позаботится? Эта концепция о том, что чужих людей не бывает – не бывает чужих бабушек, не бывает чужих детей. Видишь – помоги, потому что завтра кто-то поможет твоей бабушке, твоему ребёнку, тебе. Вот это, наверное, самая главная мечта, пожелание – чтобы люди больше поворачивались друг к другу.
– Спасибо вам за то, что вы у нас есть, за то, что когда-то создали такой отряд.
– И всем людям, которые приезжают на поиски, приходят в отряд, помогают.
– Обязательно. Спасибо вам большое за беседу.