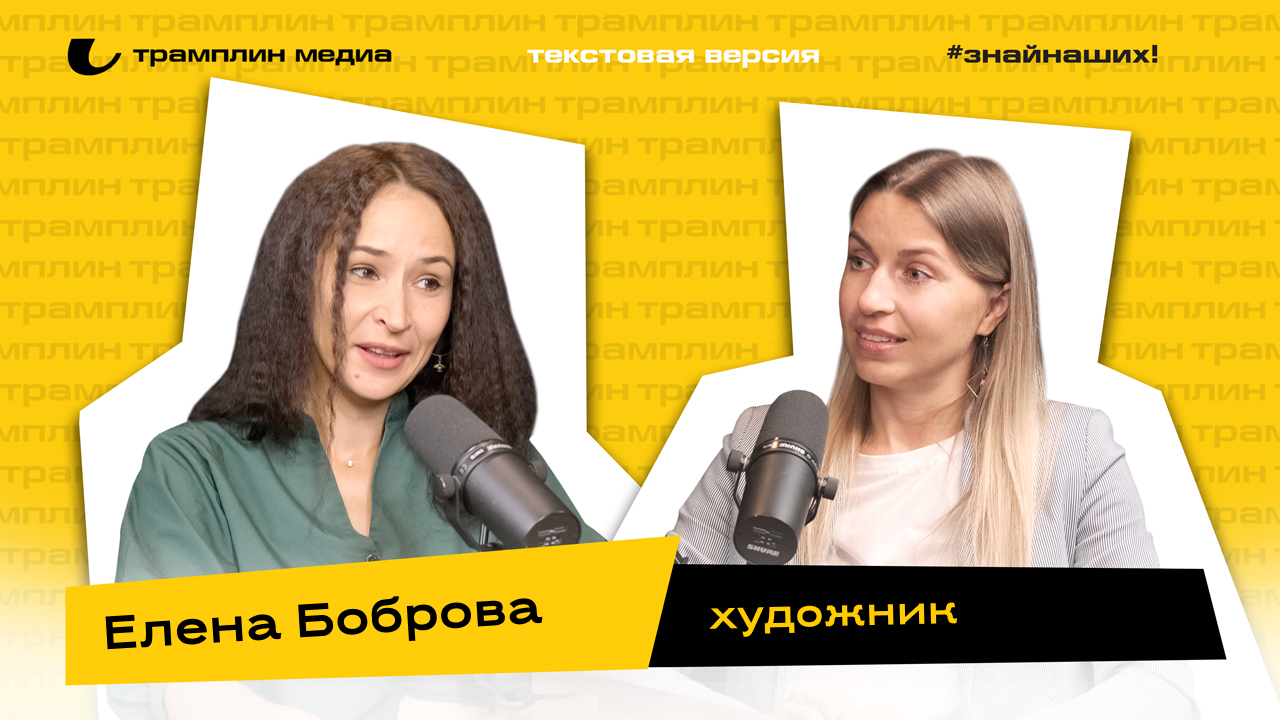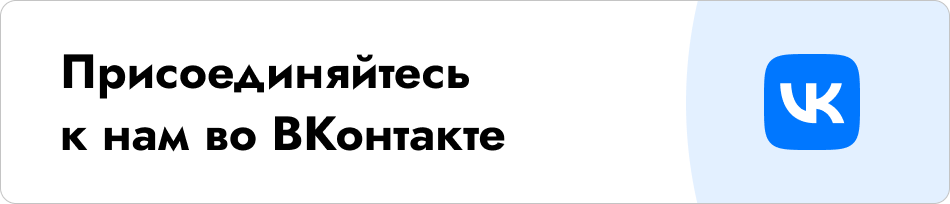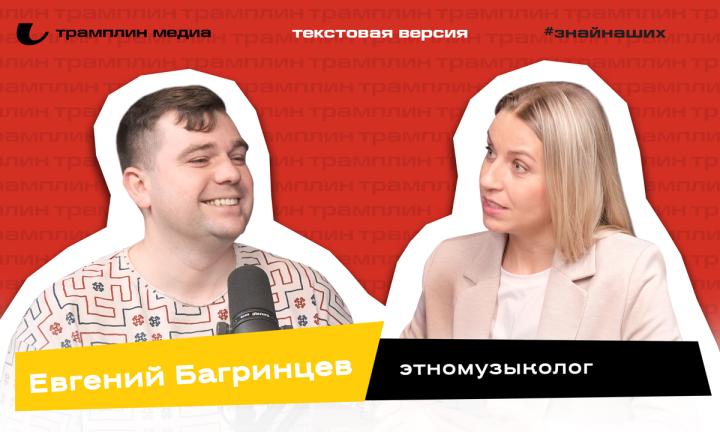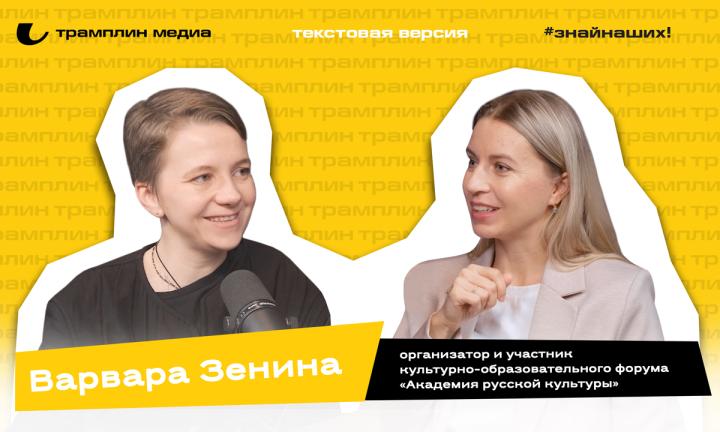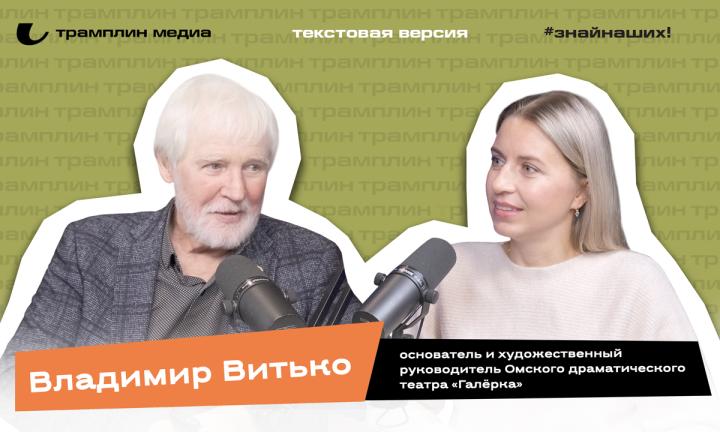Дата публикации: 7.09.2024
Для тех, кто любит читать, текстовая версия подкаста «Знай наших!» с Еленой Бобровой.
– Это медиа «Трамплин» и подкаст «Знай наших!». Здравствуйте. Сегодня я хочу представить вам омского живописца, члена Союза художников России, преподавателя кафедры дизайна Омского государственного технического университета Елену Боброву.
Елена, здравствуйте.
– Здравствуйте.
– В августе в Тюмени открылось «Вербное воскресенье», я так понимаю, вы инициатор этого события. Как вообще родилось такое название вашей новой экспозиции? И как родилась сама экспозиция?
– Она родилась математическим путём. Я сразу поправлю: это не моя инициатива, так получилось, что, по-моему, в феврале проходила наша главная выставка Союза художников России – «Россия». Она проходит раз в пять лет и в этом году её часто путали с «Россией», которая шла на ВДНХ, мы не знали, что делать и как пояснять, чтобы люди приходили в правильное место. Она всегда проходила в Центральном доме художника, в этом году – не исключение, она собирает лучших художников со всей страны. Моя работа туда прошла, я поехала. Удивительно, что на этой выставке «Россия» я встретила колоссальное количество художников, которых раньше встречала в совершенно других местах. Кого-то на пленэре в Севастополе, кого-то я встречала на Байкале, для меня это были разные истории, которые были про разные вехи, какие-то периоды моей жизни. И тут на этой «России» я встречаю ту свою творческую жизнь вот просто от и до. В числе прочих я встретила Александра Сергеевича Новика, которого я безумно уважаю, это большой серьёзный художник, с которым мне как-то уже доводилось сотрудничать, я периодически вожу студентов в Тобольск и являюсь руководителем студенческой практики, делаю это и с его благословения, потому что, если бы он не подписал страшные договоры на практику, мы бы со студентами там никогда не оказались. И с Александром Сергеевичем мы встретились у моих работ, он мне задавал много вопросов, я ему тоже, и он мне говорит: «А ты не хочешь приехать к нам с выставкой в Тюменский союз художников?» Я: «Хочу».
– Тем более – в первый раз.
– Надо сказать, я вообще горжусь тем, что до сих пор те выставки, которые у меня были в других городах, они по приглашению состоялись. Я никогда не пробовала подходить: «А вы не хотите мою выставку принять?» Я не знаю, как это делать, как-то, наверное, не так воспитана, может быть, иногда это и надо уметь.
– Наверное, большое везение, да? Когда приглашают.
– Везение и работа. Всё-таки приглашают, когда понимают, что есть что показывать. Я подарила Александру Сергеевичу каталог, который у меня не так давно напечатали. Подошли даты – и я понимаю, что надо начинать готовить выставку в Тюмени. Мне присылают пропорции выставочного зала, я беру в руки рулетку и начинаю замерять свои работы, понимаю, что ничего не входит. Я грешу тем, что люблю большой формат, люблю выходить за пределы натуральной величины предметов.
– Так вот упомяните, какие размеры полотен? 120х150, по-моему, там были.
– Мне сказали такие не присылать. Но, перебрав всё своё нематериальное наследие, я поняла, что я не смогу этого избежать, и долгое время я думала, что же сделать. Во-первых, мне надо подобрать работы по форматам, чтобы они «сели» в зале, чтобы они были комфортны для восприятия зрителю. Это же ответственно, первая выставка, первый блин не должен комом получиться, потому что это уже вопрос следующих приглашений. Начинаю волноваться, начинаю замерять. Я плохо считаю, я потом уже всё пространство этого листочка, на котором подсчёты производила, разлиновала в клеточку. И в итоге я вспомнила, что у меня есть такая замечательная серия «Вербное воскресенье», я писала её в течение, может быть, полутора лет, не подряд. Там просто постепенно набирались работы, которые чисто визуально отталкивались от тематики крынок, это натюрморты. Кстати говоря, крынки – они тоже намного больше натуральной величины, ко мне как-то студенты приходили в мастерскую, я говорю: «А вот крынки, которые я писала с натуры». Они: «Где?» Я: «Вот». Они: «Вот эти?!» Они маленькие на самом деле. А там у меня крынки совершенно другой величины. Началась эта серия со студентов, я им устроила такую сложнейшую задачу, какая-то у меня была очень интересная группа, я поняла, что есть с чем работать. Я им принесла все крынки натюрмортного фонда, которые у нас были. Получилось, наверное, крынок десять-двенадцать, всё это я наставила в такой стройный ряд, нашла вербы (тоже в натюрмортном фонде) – и всё это назвала «посвящением Гелию Коржеву» и теме Вербного воскресенья. И ходила я, смотрела на этот натюрморт, и думаю: возьму-ка я тоже попишу. Я принесла большой холст и писала тогда не все крынки, а блок из трёх предметов. Но когда я их начала писать, я заметила, что все эти крынки – они, во-первых, разные и по форме, и по цвету, а во-вторых, они очень напоминают человека – кого-то с широкими бёдрами, у кого-то такая фигура пловчихи с плечами. Но это, понятно, связано во многом с функционалом: одни для кисломолочных продуктов, другие для хранения, может, зёрен каких-то. Тем не менее они все разные, у них у всех был характер. И такую параллель с человеком я уже задумала, когда писала первую работу «Вербное воскресенье». А потом, разговаривая со студентами на тему этого Вербного воскресенья, я стала углубляться в историю праздника. И как только я углубилась в историю праздника, для меня появилось другое значение в этих крынках и вообще в словосочетании «Вербное воскресенье». Скажите, какие у вас ассоциации с Вербным воскресеньем? Что это за праздник?
– Вербы, во-первых. Готовимся к Пасхе, это последнее воскресенье перед Пасхой. Вот, наверное, и всё.
– Вот! И все радостные, все несут букетики. В этом году, кстати, мы первый раз оказались в Севастополе на Вербное воскресенье, весной. Солнечный день, белоснежный Севастополь – он сияет, кажется, собственным светом, и со всех сторон поток людей стекается к церквям, и все несут букетик вербы. Это понимание такого общего праздника. А с другой стороны – что мы празднуем? Это же вход Христа в Иерусалим. Как развивались события после входа Христа в Иерусалим? Собственно, те люди, которые встречали Христа и кидали пальмовые ветви, которые заменяют вербой, спустя чуть больше суток уже кричали: «Распни!» И история этого Вербного воскресенья – она трагическая, это история о человеке и его слабостях, о том, как трудно принимать правду, о том, как трудно смотреть в глаза пророку. И дальше моя мысль на тему Вербного воскресенья пошла именно по этой траектории, у меня получилась такая драматическая серия крынок, которые стоят на пороге света и тени, которые смотрят в свет, но всё-таки ещё помнят о той тени, которая была у них внутри. Серия преобразилась в такую смысловую аллегорию, которую я потом стала дополнять соответствующими работами.
– То есть здесь пошла библейская тема.
– Да. И я стала собирать к этому Вербному воскресенью – Яблочный спас, есть у меня и такая работа. Есть у меня много параллелей и аналогий связанных – в честности, большая работа «Мамина чаша», которая написана по сюжету Тайной вечери. Я проводила параллель с известной историей о Граале и историей своей семьи. Так вот я попыталась провести параллель. В итоге эта серия «Вербное воскресенье» как-то стала притягивать такую, как мне казалось, разрозненную попытку светского человека переосмыслить эти евангельские события. И получилось совершенно не сумбурная (как поначалу, когда я задумывала содержание экспозиции) выставка.
– Продуманная?
– Да, она как-то стала складываться. Но начала я думать с Вербного воскресенья, поэтому назвала «Вербное воскресенье».
– Какие ещё работы в этой экспозиции? Что собралось ещё, как пазл?
– Специфический зал у Союза художников Тюмени: он предполагает второй ярус, такой своеобразный балкончик, на который вешаются небольшие работы, коих у меня немного. Именно в продолжение этой тематики – как-то надо же идти на волне основной экспозиции –я вспомнила, что один из моих любимых мотивов – это мотив рыбы. Во-первых, я рыбу очень люблю, если меня потерять в супермаркете, то всегда знаешь, где находить.
– В рыбном отделе.
– Скорее всего, я разглядываю рыбу, особенно когда она свежая, когда её только привезли – и лежат вот эти вот крупные рыбы, переливаются чешуёй. Рыба – очень живописный материал сама по себе. В ней всегда есть – любой живописец меня поймёт – отношение теплохолодности, она изменяется по цвету от хвоста к голове, в неё интересно всматриваться, и кроме того, это же тоже очень мощный символ, который часто используют: голова рыбы – как голова Мессии, рыба часто была символом Христа. А ещё ситуация выброшенной на берег рыбы, вообще ситуация рыбы без воды, рыбы вне воды, мне кажется, очень созвучна сегодняшнему дню. Наверное, непопадание во время, когда время течёт быстрее, чем твоя жизнь, такое есть впечатление.
– И человек не успевает переварить просто.
– Может быть, когда ты не можешь понять смысла проходящих событий, когда ты не знаешь, где правда, это, наверное, самая главная боль этого времени, потому что мы уже перестали верить чему бы то ни было. Даже какие-то допуски, припуски стало делать уже сложнее. Эта ситуация рыбы без воды очень похожа на ситуацию человека в современном мире, он оторван от природы в широком смысле слова и от своей личной природы.
– И вдохнуть-то негде. Вот эти работы, большие полотна... Почему именно большие форматы?
– Знаете, на эту тему есть очень забавная, можно сказать, аллегория. Мы были в музее Максимилиана Волошина в Коктебеле, там есть замечательная фотография, будете – посмотрите обязательно, это иллюстрирует то, о чём вы спросили. На ней стоят Волошин и Богаевский, принципиально разные по своей конституции. Волошин огромный мужчина, он был очень высокий, широкоплечий, статный, грузный, такой богатырь. И Богаевский, может быть, ему по грудь, а то и ниже – маленький, щупленький, худенький. Волошин стоит с маленьким этюдничком на плече – для акварели, акварель у него была меньше десяти сантиметров по размеру. И стоит Богаевский с этюдником, который почти с него размером, держит такой же большой холст. Какая-то происходит, видимо, компенсация! Не знаю, с чем это связано.
– Может быть, наоборот, это широта души? Есть где размахнуться кистью.
– На самом деле просто у каждого своё. Во-первых, есть темперамент, который никуда не деть, с ним родился – и уже всё.
– У вас именно такой.
– Что дано, то дано. Может быть. Во-вторых, формат – это же определённая категория смыслов. Когда предмет изображается в натуральную величину, вообще изображение предмета до натуральной величины, мы воспринимаем как сходство и у нас есть радость узнавания. Вот, например, увидели стакан: похож! Гранёный, мы его знаем, мы успокоились. Чтобы задать зрителю какую-то дополнительную информацию, художник начинает подключать выразительные средства, придумывать какой-то цвет, ситуацию, сюжетную линию, чтобы зритель понимал, что это не просто стакан, а это какая-то часть истории.
Когда предмет становится больше натуральной величины, эта радость узнавания у нас немножко разбавлена сомнением: мы сразу же начинаем думать: «А почему?» И в этом смысле зрителя направлять проще, то есть он уже готов к тому, чтобы идти по какой-то траектории, которую ты предлагаешь ему, дополняя выразительные средства. Потому мне эта категория смыслов очень близка: устойчивые ассоциации, которые у нас копятся. Это средство композиции – масштаб – я очень охотно использую. Может быть, когда у меня появится какой-то другой круг тем, я сяду, возьму формат А4 и буду на нём работать.
– Сложно уже загнать себя в эти рамки, я думаю.
– Это маловероятно, но я допускаю.
– И потому руки у вас большие, и голова у человека большая – это всё тоже чтобы подумать?
– И подумать, и потом, посмотрим правде в глаза, я всё-таки не портретист и когда изображаю человека, скорее всего, говорю не о конкретном человеке, о его личной истории, а о человеке вообще. Кроме того, большой формат мне как живописцу ещё позволяет увлечься фактурой, повглядываться в эти мелочи, детали, то есть уже решать не по большому счёту форму, а всмотреться, вглядеться в её изменения. Иногда они сообщают тоже очень много информации об изображаемом.
– Интересно. Параллельно с «Вербным воскресеньем» вы готовили ещё и выставку «Тет-а-тет», выставку автопортретов и портретов.
– Да, получается, что они тематически шли на одной волне.
– «Тет-а-тет» – такой выставки давно... вообще, наверное, не было в Омске, и в ближайшее время тоже, скорее всего, не будет.
– Выставка автопортретов в Омске точно первая. Я, прежде чем утверждать, опросила с пристрастием абсолютно всех – и художников, и искусствоведов, они подтвердили, что выставки автопортретов в Омске не было. По крайней мере в Омске. Конечно, любая идея существует всегда, скорее всего, это кто-то делал, но так, чтобы можно было сравнить, оценить, мы, наверное, не найдём. Кроме того, автопортрет делают все художники, это точно.
– Да, это точно.
– Нет ни одного художника, который на себе не тренируется.
– Это даже в рамках обучения, наверное, есть.
– Конечно. Многие люди, которые, может быть, не стали художниками, часто рисовали свои руки: сидишь на скучном уроке, положил руку, сидишь, срисовываешь. Какие-то такие вещи практически каждый делал, художники – и подавно. Конечно, чтобы изучить натуру, изучить модель, грех не воспользоваться натурой, которая всегда под рукой, которая никогда не жалуется, которая тебе понятна, которую ты знаешь досконально. Конечно, этим пользуются, этот материал есть у любого художника, но показывать его не всегда получается. А материал этот очень искренний, потому что, когда ты пишешь себя... нет, может быть, кто-то и хочет себе понравиться, но до какого-то предела. Постепенно вглядываясь в своё лицо, ты начинаешь замечать, как ты меняешься даже в процессе именно вот этого сеанса: меняется выражение лица, появляются какие-то изменения, которые ты не замечал, и ты невольно, может быть, даже не вполне контролируя себя, цепляешься, идёшь за этими изменениями и иногда получаешь ответ на вопрос, какой ты сейчас и что ты чувствуешь на самом деле. Иногда ты загоняешь какие-то свои чувства, переживания, куда-то вглубь своего колодца, который, кстати, призывает вскрыть Владимир Новиков на нашей выставке. И где-то твои ощущения, воспоминания находятся очень-очень глубоко, и ты даже не знаешь, что они не просто есть, а они диктуют какие-то поведенческие вещи, может быть. Тут ты пишешь, цепляешься за какую-то где-то складочку, где-то морщинку, где-то выражение какое-то, прищур – и вдруг: точно, ты понял!
– Что объяснила эта экспозиция самим авторам картин? Они что-то новое о себе узнали или признались в этом на открытии, допустим? Я знаю, что у Георгия Кичигина – необычный портрет с яблоком на голове...
– Когда я затевала эту выставку, я в первую очередь думала, конечно, о Георгии Петровиче, потому что это его тема в принципе – тема автопортрета. Он очень часто пользуется своей натурой для того, чтобы говорить о вещах глобальных, очень сложных, непростых темах, о времени, о месте, о городе. Не обязательно о себе, и даже редко – о себе. Но именно на этой выставке собраны автопортреты, которые очень откровенны и показывают беззащитность большого человека, крупного человека, той самой крупной рыбы в большом аквариуме. Он не боится задать себе вопросы, рассказать о своих сомнениях, опасениях. Портрет с яблоком – работа, которая вмещает в себя вообще во многом концепцию выставки, потому что, когда мы говорим прямо – мы открываемся, становимся уязвимыми. Уязвимость очень часто провоцирует. В этом смысле есть очень печальный перформанс, который провела Марина Абрамова, вы, наверное, знаете её, может быть, слышали, потому что этот перформанс многие обсуждали. Она художник-акционист, я только боюсь наврать с площадкой, не помню, где это было, но какая-то выставочная площадка всё-таки была. Она стояла недвижима с табличкой, что «вы можете делать со мной всё что хотите». И стояла с этой табличкой посреди приличного места, не под мостом она стояла, понимаете?
– В цивилизованном месте, куда ходят интеллигентные люди.
– Она стояла в цивилизованном месте. А рядом лежали какие-то предметы, уже сейчас не помню, колющие, щекочущие.
– То, что можно использовать.
– Сначала на неё не реагировали зрители, потом постепенно стали щекотать – и убегать, потом дёргать за волосы, потом, когда человек понял безнаказанность, что действительно им ничего не будет, тогда началось. И этот перформанс прервала охрана, потому что побоялась, что её убьют. Её изрезали, она была вся в синяках, причём раздетая в итоге. После этого перформанса она стала седой, то есть она испытала настоящий ужас, хотя она человек, который никому ничего не сделал, её не в чем было обвинять. Но идея безнаказанности и какой-то вседозволенности – она сделала своё дело, и люди, которые пришли туда, резко стали такими. Я клоню к тому, что, конечно, когда вы открываетесь, вы провоцируете, вот этот момент. Но с другой стороны – а как, если не говорить прямо, как самому тогда разобраться внутри каких-то своих категорий?
– Всё-таки в наше время проще и лучше быть открытым или закрытым?
– Время всегда одинаковое на самом деле. Я так думаю. Мне, кстати, в этом смысле недавно попалась книга... Ну, как попалась, я периодически покупаю книги в интернет-магазине, и в качестве рекламы мне выпала картинка с «Беседами» Эпиктета. А я помню, что по юности увлекалась, мне было интересно разобраться со всеми этими персонажами – и античными в том числе – писателями, философами того времени. Я помню, что я вроде как читала, где-то брала – в библиотеке, наверное. У меня не было Эпиктета. Думаю: «Закажу! Освежу!» Взяла я этого Эпиктета, села читать... Я не смогла не то что дочитать, я застряла где-то глубоко в начале – потому что у меня не укладывается в голове: я читаю совершенно современную книгу! Я была уверена, что я сейчас что-то типа «Илиады» Гомера сяду читать, о приключениях каких-то мифических персонажей, а тут... Если убрать какие-то моменты, связанные со строем – с рабством, где-то упоминания каких-то персонажей, того же Зевса, это же всего-навсего имена, а рассуждения, вопросы, которые его волнуют... Представляете, это V век до нашей эры! Это до рождения Христа пятьсот лет! Прошло ещё две тысячи двадцать четыре – и ничего не поменялось. То есть визуально поменялось, одежда другая... Поэтому думать, что в какое-то другое время человек развивается как-то по-другому... Похоже, что всегда он об одном и том же болеет, одним и тем же занят, ну, немножко по-другому одет, как-то иначе перемещается в пространстве. А глобально – я не думаю, что какие-то изменения случились, к сожалению.
– То есть можно быть и открытым, и закрытым.
– Я думаю, что по отношению к себе нужно точно быть открытым, лучше сразу разбираться.
– Вы как-то говорили, что это очень важно – выпускать это всё из себя, иначе это всё, наоборот, загниёт где-то там глубоко.
– Это я применительно много к чему говорила, в том числе о выставках и о творческой деятельности, о мыслях, которые в голове. Конечно, всё, что долгое время находится в замкнутом состоянии, неизбежно начнёт...
– Тухнуть.
– Да. Поэтому какой-то выход энергии нужен. Для этого у меня есть, во-первых, преподавание, где я хожу, обсуждаю, рассказываю, где-то получаю вопросы, на эти вопросы вынуждена искать новые ответы, и у меня эта информация всё время в состоянии такой обновлённой крови, получается.
Продолжая вопрос об открытости/закрытости: если себе хотя бы один раз сказать даже не то что неправду, а на что-то закрыть глаза где-то внутри себя, потом можно не разобраться вообще. Поэтому, наверное, у художника в этом плане более счастливая задача, он может это делать – и во многом как раз посредством автопортрета.
– Что вас вдохновляет?
– Жизнь. Мне кажется, жизнь вообще вдохновляет. Это же такое чудо, которое происходит с нами здесь и сейчас. Вроде как сидим за столом с микрофонами, об этом не думаем, но это чудо – слышать запахи, ощущать температуру тела. Говорим мы с вами вдвоём, потом – послушает много людей: «это событие, что случилось!» Кто-то будет отрицать, кто-то, может быть, присоединится к каким-то мыслям, но самое главное – что-то будет запущено, что-то начнёт жить, пойдёт такая волна, и это чудесно.
– У вас есть ваша самая любимая работа? Какая-то одна, которой до сих пор восторгаетесь.
– Я никогда не восторгаюсь своими работами. Мы тут, кстати, когда перевозили объекты Владимира Новикова на выставку, – он с таким удовольствием рассказывает про свои работы! Я ему так завидую. Он счастлив за каждую деталь, которая прикреплена, он радуется ей как ребёнок, мне очень завидно, я бы хотела так порадоваться.
– Почему у вас этого нет?
– Наверное, так: решил ты какую-то задачу или не решил. Вот это, наверное, главный критерий, по которому я оцениваю свои работы. Получилось то, что я хотела донести, не получилось. И самое лучшее, что может случиться, – «получилось». Но дальше всегда – «можно было лучше». Можно было лучше написать, можно было взять побольше размер или, наоборот, поменьше. А может быть, можно было тут усилить. Ты всегда видишь, что можно было бы сделать ещё.
– Как-то усовершенствовать.
– Сделать ярче, сделать лучше. Равняться, по-моему, надо только на недостижимое: когда ты смотришь Рембрандта, например, когда ты смотришь античное искусство, ты понимаешь, насколько безупречно владели формой, психологией, материалом мастера прошлого, то ты ходишь, оцениваешь свои работы...
– А значит ли это, что вы всегда находитесь в состоянии в какой-то степени недовольства собой?
– Точно.
– Это не угнетает?
– Нет, это позволяет расти. А что делать, если ты молодец? Я, когда слушаю, особенно когда молодые ребята начинают говорить, как они пришли к своему венцу, как у них всё великолепно, блестяще получается, я думаю: они никуда не пойдут, потому что, чтобы ты делал так дальше и становился лучше, надо быть чем-то недовольным. Почему развивалась механика? Давайте ещё вот так вот, а теперь ещё вот тут.
– Критически просто подумать нужно.
Есть ли у нашего Омска лицо? В том плане: чем отличаются наши художники от художников из других городов, других стран? Вы очень много ездите, путешествуете, наверняка у вас уже сложилось какое-то впечатление и о наших.
– Есть уже такой устоявшийся термин «омский полистилизм» – и это действительно так, у нас очень много стилей, направлений, течений, художников совершенно разных творческих концепций, стилей, позиций. У нас очень большой, широкий диапазон. Это точно отличает Омск. Очень часто в том или ином городе довлеет школа: где-то академическая, где-то – вот в Пензе долгое время была концептуальная традиция, когда были арт-резиденции Марата Гельмана, туда стали стягиваться концептуалисты со всей страны. У них пошла новая волна, которая перебила прежнюю, всё-таки Пензенское училище академическое, классическое, долгое время довлело. Но так или иначе – это разбег между, условно говоря, белым и чёрным. А у нас полутонов очень много. И что ещё нас очень выгодно отличает, на мой взгляд, – омский художник не испорчен, так скажем, заказами. Он работает не на продажу, он работает не на какую-то конкретно целенаправленную выставку, он работает, потому что не может не работать. И это делает его – каждого конкретно – самодостаточным, независимым, с миром своих (именно своих!) образов. Может быть, наш полистилизм этим и обусловлен. Даже в советское время, когда были наши знаменитые шестидесятники, которые гремели, всё-таки родилась же у нас группа «ЭХО» в восьмидесятые годы, совершенно другое направление мысли, воплощения. Я даже не знаю, может быть, это обусловлено географией – всегда то, что происходит на территории, обусловлено географией. Может, это наше «ом-м-м», Омск. Направленность куда-то вглубь себя. Но мы действительно такие – безбашенные дурачки, кого ни возьми – начинаешь разговаривать с художниками по регионам, все знают, для чего они, куда делают, без переборов. Наши трудятся – вот в никуда! Написал 20 работ: «А у тебя выставка?» – «Нет! Просто написал». Наверное, в этом наше счастье, что нас не испортила эта ситуация галерейного заказа.
– А есть вообще спрос на работы?
– Я, конечно, не буду говорить за всех, потому что не знаю общую ситуацию. По себе могу сказать, что есть. Есть запрос и музейный, есть запросы коллекционеров. Конечно, чаще всего это не омичи, скажу честно. Даже не «чаще всего», а вообще не омичи.
– Хоть россияне?
– Да. Я, кстати, как-то неохотно расстаюсь с работами, которые уходят за границу. С одной стороны, хорошо, наверное. А с другой – ты никогда не знаешь их судьбу, где-чего-зачем, где-то они там находятся в помещении, не в помещении. Всё-таки очень тяжело для меня расставаться с работами, которые идут в Китай, например. Потому что ты понимаешь, что тот копийный рынок, который у них там есть... Неизвестно, для чего твоя работа там вообще.
– То есть копируют?
– Да, конечно. У них целые копийные мастерские. Поэтому, конечно, комфортнее и спокойнее, когда ты знаешь, что твоя работа по крайней мере будет жива-здорова, будет храниться.
– А вы знакомитесь с теми людьми, которым продаёте за границу? Хотя бы предварительно.
– Я сразу скажу, что это очень редкие случаи, и тех людей, кто приобретали мои работы, я знала. Хорошо знала и знала, где они находятся.
– Это не случайные люди, и вы спокойны сейчас за свои работы.
– Да.
– Как вы сегодня работаете со студентами? Изменился ли студент с той поры, когда вы сами были студенткой? Сегодня что-то потерялось? Что-то наработалось? Можем ли мы получить таких же выдающихся, как Кичигин, как Боброва?
– Ну, вы сравнили.
– Белов... Так или иначе – есть ли преемственность?
– Наверное, моя большая грусть заключается в том, что я же у дизайнеров преподаю, для которых моя дисциплина не является приоритетной. Живопись и рисунок – это цикл пусть и профессиональных, но общепрофессиональных дисциплин. Спецдисциплины – это, конечно, проектирование, всё, что связано со всеми этими вещами. И большое значение в жизни студента имеет диплом – и выход на диплом. Только тогда ты понимаешь, что такое та профессия, которую ты выбрал, путь, который ты должен пройти над картиной. В нашем вузе дипломы защищаются по дизайну интерьеров, в лучшем случае – самое близкое – это иллюстрирование книги, но это не мой профиль, в эту сторону не посмотрим. И мои студенты, которые достигают хороших высот, с которыми мы прощаемся, обнимаясь при встрече, у которых, я знаю, что «встала рука», встала на место голова... Я понимаю, что, скорее всего, в творческое горение, в самостоятельный творческий путь они вряд ли уйдут. Именно на дипломе они перестраиваются, начинают уже нарабатывать клиентуру, они во время преддипломной практики уже находят себе работу. И они работают, это на самом деле очень здорово, потому что мы их и готовим – дизайнеров. И это правильно, если они идут работать в дизайн. У меня из-за этого есть такое ощущение как бы недореализованности, с одной стороны, потому что мне бы хотелось, чтобы то, что я посадила, не просто как однолетник – расцвело, выросло и сажай заново, как часто происходит, а чтобы я приходила и периодически наблюдала, как это растёт. К сожалению, наверное, нет... Но с другой стороны – удовольствие от работы не меньше, я очень люблю работать со студентами, ради удовольствия, а не ради чего-то ещё. И работаю, потому что новые люди – это новые ситуации, я вынуждена заново разбираться с формой, они каждый раз совершенно по-разному понимают одни и те же задания, я начинаю придумывать какие-то новые ходы, это не даёт мне застояться – в творческом смысле в том числе.
– Не было идеи открыть свою школу живописи?
– Не было. Я не хочу брать на себя маркетинг.
– То есть всю эту рутину, которая именно бизнес.
– У художника в этом смысле должен быть маркетолог, как, например, у Анатолия Мовляна, у которого есть хорошая опора в этом смысле. С него – его талант, его голова, его понимание задач, а с супруги – организация процесса. Тут, наверное, я не могу похвастаться, менеджмент – это то, что не дано художнику в принципе и не может быть дано.
– Творческий человек – он творческий человек, должен думать о творчестве.
– Это же большое количество документов, это бухгалтерия, это точно будет отвлекать. Наверное, какие-то частные уроки могли бы быть, но я несколько раз затевала это дело – и бросала. Потому что, когда человек приходит к тебе на частные занятия, у него, как правило, две задачи: либо с пользой провести свободное время, либо «а научите меня делать так же». Ну, подожди, «научите меня делать так же» – на эту тему ещё песня была: «Видишь, там, на горе, возвышается крест». Иди и виси, потом приходи. Все хотят манеру, не понимая, что манера – это следствие образования, детства...
– Это сам человек, всё его содержание.
– Конечно. Не получится «так же», потому что не получится, ты другой!
– Потому что мы все разные.
– И смотрение по верхам, конечно, лишает энтузиазма в этом вопросе. Мне комфортнее работать в такой системе: я знаю свои задачи, я понимаю, что ко мне приходят люди, которых я должна научить этому, этому и этому. И я эту задачу пытаюсь решить – иногда сложнее, иногда проще. По-разному.
– Очень приятно было с вами побеседовать. Невероятных успехов вам. И таких же глобальных выставок, чтобы побольше аудитории было. Хочется, чтобы омичи шли, шли, шли.
– Спасибо большое. Ваши слова бы богу в уши.