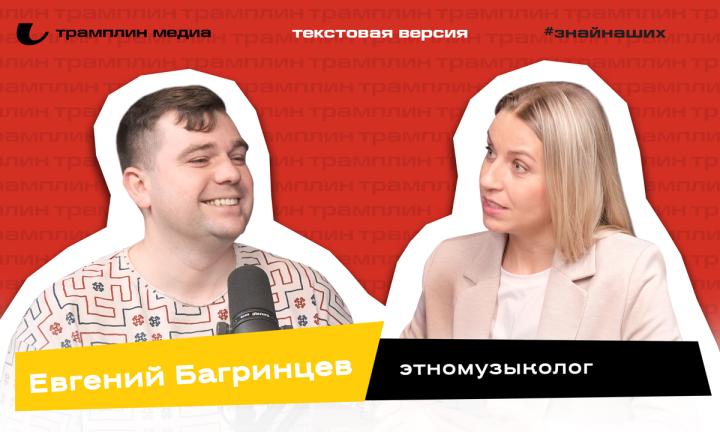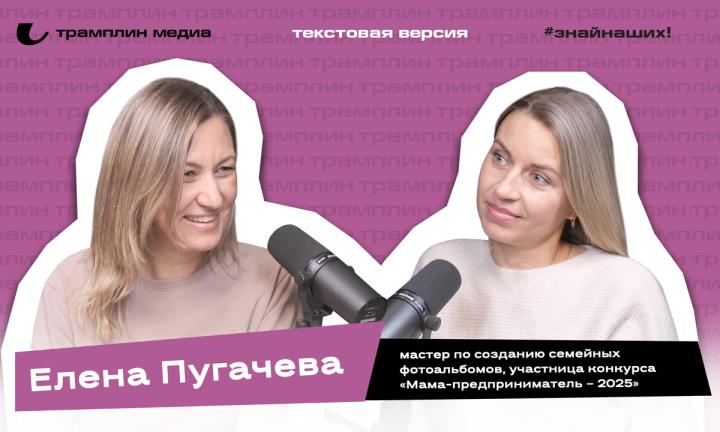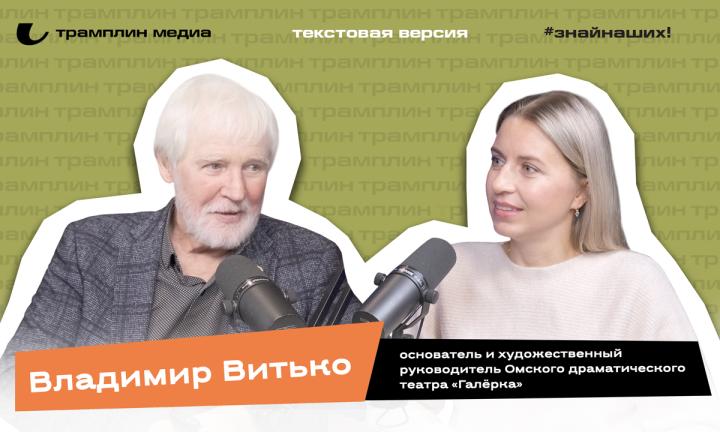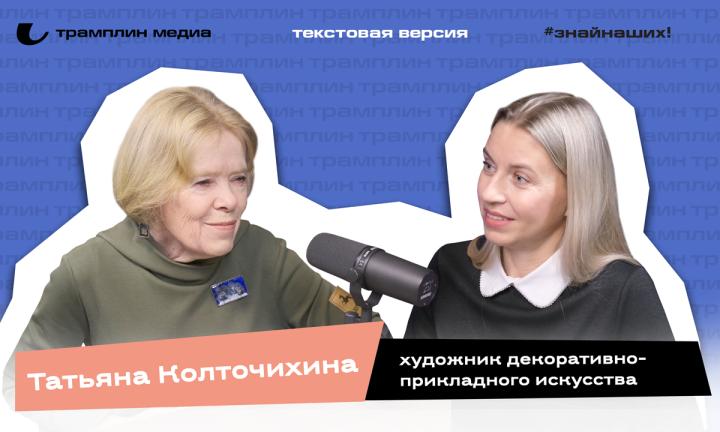Дата публикации: 18.01.2025
Для тех, кто любит читать, текстовая версия подкаста «Знай наших!»

— Это подкаст «Знай наших!» на медиа «Трамплин». У нас сегодня в гостях художественный руководитель духового оркестра Омской филармонии, главный дирижёр, заслуженный деятель культуры Омской области Олег Романов. Олег Юрьевич, здравствуйте!
— Здравствуйте!
— Я знаю, что вы руководите оркестром уже более 12 лет. Но ведь могли и больше? Когда вам сделали первое предложение, почему вы тогда отказались?
— Какие у вас сведения! Интересно, откуда вы их берёте!
— Это правда, неправда?
— Правда! В тот момент, когда мне предложили в первый раз, уже тогда была очень непростая ситуация с кадрами, а хотели, чтобы коллектив был хороший, профессиональный, но отдельный, свободный, так скажем, от совместителей.
— Это начало 2000-х?
— На тот момент здесь ещё был первый дирижёр этого оркестра Михаил Дмитриевич Тарасенко. Когда предложили, уже кадровая ситуация была такая, что невозможно было сделать хороший оркестр без совместителей. Либо нужны были огромные средства, чтобы создать коллектив, потому что нужно было фактически создавать духовой оркестр так, как в своё время Семён Аркадьевич Коган создавал симфонический оркестр в городе, в котором не было консерватории, было только музыкальное училище. По большей части создавался этот оркестр так: приглашали людей из других городов, но… мы помним, что тогда было волшебное слово «исполком». Артистов встречали на вокзале с ключами от квартир. В начале 2000-х уже такой возможности не было.
— Вы в тот момент испугались, что не справитесь?
— Нет, я не испугался. Просто зачем соглашаться на заведомо неисполнимую задачу. А потом изменилась ситуация. Василий Иванович (Евстратенко, директор Омской филармонии в те годы. – Прим. ред.), светлая ему память, я его убедил, он понял, что, действительно, без совместителей нормального коллектива не получится. Приняли это за данность. И да, тут палка о двух концах. С одной стороны, на сегодняшний день большинство артистов духового оркестра Омской филармонии — артисты академического симфонического оркестра. И соответственно мы отдельно от этого коллектива существовать не можем.
— То есть вы единый организм?
— Естественно, если у нас есть какие-то мероприятия, мы сверяемся с расписанием флагманского коллектива – Омского академического симфонического оркестра. Вписываемся – да, не вписываемся – извините. Ещё есть такой момент. Для того чтобы набрать, я подчеркиваю, отдельный коллектив, например, кинуть клич по стране, мол, набираем, тогда нужно предлагать привлекательную зарплату, а финансовой возможности такой сейчас нет. То есть уровень зарплаты, которую предлагает филармония духовому оркестру, это уровень подработки. Есть основная работа – и есть подработка.
— Можно говорить о том, что мы сейчас переживаем кризис?
— Видите, в чём дело. Кризис этот начался очень давно. Как только девяностые «проасфальтировали», всё исчезло, вся та традиция, которая была. Кроме школ музыкантских воспитанников при каждом оркестре были воспитанники, из них выходили неплохие духовики. Была еще самодеятельность, при каждом заводе был духовой оркестр. В каждом ДК был духовой оркестр. Изучая материал, а у нас в стране издавали репертуары оркестров художественной самодеятельности, я иной раз перелистываю страницы и думаю: хорошие были оркестры, если они вот это могли играть! Потому что в этих изданиях содержатся непростые произведения. Раз издавали – значит, оркестры это играли. И вот этого всего не стало… Разрушить можно мгновенно, а вот воссоздать… Сейчас пытаются, воссоздают, по стране предпринимаются различные меры, чтобы изменить эту ситуацию. Дело сдвинулось с мёртвой точки, но понадобятся годы, десятилетия. Ну и ещё раз подчеркну: чтобы содержать хороший оркестр, нужны серьёзные финансовые средства, потому что кроме зарплаты музыкантам ещё необходимы музыкальные инструменты, пюпитры, другое оборудование, нотный материал, который тоже сейчас стоит денег.
— И те же оркестровые стулья, о которых мы с вами говорили.
— Да, и оркестровые стулья... Это вообще хорошо, когда есть свой угол, своё помещение. У симфонического оркестра в строгом смысле тоже своего помещения нет. Своё помещение — это у них сцена концертного зала. Но сцена концертного зала — это площадка, на которой проходят и арендные концерты, и правительственные концерты, то есть всё равно всё это оборудование и снаряжение существует в режиме «поставил — убрал». Естественно, износ происходит быстрее, чем если бы было какое-то помещение. Но для симфонического оркестра, а это около сотни человек, такого помещения у нас в Омске нет.
— А у духового...
— ...тем более. Согласились, что необходимо совместительство. Артисты академического симфонического оркестра – это высококвалифицированные духовики. С одной стороны, мы должны равняться на расписание симфонического оркестра, с другой стороны – это высококвалифицированные духовики, которые составляют профессиональный духовой оркестр. Да, он небольшой, 30 человек – это мизерный состав, это самый маленький состав духового оркестра, который может быть. Вообще, концертный духовой оркестр должен быть хотя бы 40–45 человек, лучше 60, конечно. Но ещё раз подчеркну: а вообще Омская филармония – чем она уникальна и чем отличается от филармоний смежных регионов? Что там в Свердловской филармонии кроме симфонического оркестра? Почти ничего. А у нас и Омский русский народный хор, и симфонический оркестр, и камерный оркестр, и большой отдел, где солисты — вокалисты, инструменталисты. Ещё и гараж есть! А всё это финансирование. Пока то финансирование, которое выделяется для филармонии (я не экономист, не могу вам подсчитать), но я думаю, это половина от того, что требуется на самом деле. И поэтому что есть, то есть. Но эти 30 человек, возвращаясь к нашей теме, это профессиональные музыканты. И нам удаётся делать хорошие программы, люди идут с удовольствием, слушают с удовольствием. Профессиональная игра. Ибо профессионализм – он и в Африке профессионализм.
— Вы в музыку пришли достаточно поздно, в 15 лет. Это было по любви?
— Вообще, в детстве я не хотел заниматься музыкой, и мама меня как-то особо не заставляла. Говорила о том, что у меня впереди служба в армии, а здоровье у меня было, мягко скажем, не богатырское. И мама сказала: вот давай мы тебя научим играть на духовом инструменте, поступишь в оркестр, в школу музыкантских воспитанников. Но меня всё равно это на тот момент, как говорит сейчас молодёжь, не «вштыривало». Тогда мама с помощью одного своего знакомого отвела меня на экскурсию в Краснознамённую Каспийскую флотилию. И я посмотрел на этот морской оркестр, на этих мальчиков, одетых в красивую форму, до блеска начищенные ботинки. Тогда что-то такое подумалось: ах, вот было бы здорово! А что нужно делать? Нужно учиться игре на духовом инструменте. Да, мне тогда было 14 лет, когда меня привели в первый класс музыкальной школы, и на таких дисциплинах, как сольфеджио и прочих, я сидел такой дылда. Мне нравится фильм «Михайло Ломоносов». Когда он пришёл в Славянскую школу в Москве и сидел там с малышами, здоровый детина, вот примерно так же и я. В общем-то обучение по специальности пошло достаточно быстро. Уже через два года, когда мы приехали сюда, в Омск, я поступил в музыкальное училище. Было трудно догонять другие дисциплины, потому что у меня не было базы пяти классов, как у всех, у меня было едва два года. А со специальностью всё было в порядке.
— Это было всё довольно осознанно?
— С инструментом да! И в процессе, когда я начал обучаться, я просто почувствовал, что это моё. Но это отдельная история. У меня, можно сказать, трудовая династия. Моя мама была музыкантом, она педагог, хоровой дирижёр, и у меня были определённые способности в музыке, и в дирижировании тоже. Строго говоря, у меня не было стремления стать руководителем, стать дирижёром. Мне нравилось играть, нравилась музыка. Всё1 стало происходить помимо…
— Ваш инструмент на тот момент, когда вы поступили в училище, был саксофон?
— Нет, кларнет. Мой основной инструмент кларнет. Саксофон — это была «побочная реакция», что называется. Сначала в музыкальном театре, когда в некоторых спектаклях нужно было какие-то номера играть на саксофоне, я видел, что кларнетисты это делали. И я подумал, почему нет, я тоже смогу.
— Там уже сами добирали знания?
— Да, самостоятельно, и где-то у кого-то спрашивал, кто-то подсказывал, и т. д. Инструмент появился сначала один, потом другой, всё постепенно. И, кстати говоря, в симфонический оркестр я тоже пришёл сначала не как кларнетист, а в качестве саксофониста. Потому что что-то случилось, я сейчас уже не помню, то ли кто-то заболел, то ли еще что-то.
— Понадобилось подменить кого-то?
— Да. Пришли и спросили: «Будешь играть?» — «Буду». Я как-то ещё не осознавал, что такое симфонический оркестр. Одно дело в театре сидишь в яме, а тут ты садишься на сцену. И там, конечно, такие «бугры» сидели! А тут я, студент... В общем, я неплохо справился. И Евгений Иванович Шестаков (на тот момент дирижёр симфонического оркестра Омской филармонии. – Прим. ред.), светлая ему память, меня заметил, и потом меня уже стали пробовать как кларнетиста.
— То есть благодаря тому, что кто-то заболел, вы пришли в симфонический?
— Вроде как да. Нет, я всё равно стремился в оркестр, мне нравилось. На тот момент, да, собственно говоря, и сейчас по уровню профессионализма симфонический – это (показывает руками высокую планку).
— Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом?
— Да, здесь, в Омске, это лучший коллектив. Лучше коллектива нет. Здесь, в Омске, ещё раз подчёркиваю.
— В этом году ваш оркестр в юбилейном филармоническом сезоне будет играть особый концерт. Хочется узнать историю, которая приключилась с вами буквально перед Новым годом, это как такой подарок. Вы задумали концерт…
— Тут следует начать с предыстории. Всё началось, как обычно говорят, с сотворения мира. Но тут всё началось с Петра I, который, желая организовать армию по прусскому образцу, решил также открывать оркестры. Но это были сначала не оркестры, а просто духовые ансамбли. На тот момент ничего в России ещё не было в этом смысле. А почему не было? Нужно понимать религиозные традиции. На Руси, в православии, было только хоровое пение, а в Европе, наоборот, в церкви были приняты и орган, и оркестры, и какие-то концерты. И к тому времени, когда в Европе были уже Бах и Гендель, на тот момент у нас в России ещё ничего не было. И потому, естественно, приглашались зарубежные учителя. С нашей стороны всё началось с крепостных. Почему крепостные? Потому что крепостных можно было заставить заниматься сколько угодно. Попробуй не позанимайся — получишь плёткой.
— Ну да, выбора не было.
— Да, никакого выбора не было. Тем не менее (не было бы счастья, да несчастье помогло) дело двинулось очень быстро. Стали появляться очень хорошие музыканты, не хуже зарубежных. Да, они выучились у зарубежных, но потом они стали учить своих. То есть это западная традиция — игра на духовых инструментах, но она на нашей российской почве очень неплохо прижилась. В основном это были военные оркестры. Пётр I учредил всяческие увеселения, чтобы играли, танцевали и т. д. Опять нужны были музыканты. А откуда? Только военные же: они с утра на плацу, а вечером надели парики…
— …и можно танцы поиграть.
— Да. Пётр I, собственно говоря, всю Россию опутал гарнизонами. А раз гарнизон, значит, войсковое соединение, а раз войсковое соединение, значит, и оркестр. А раз есть оркестр, значит, он обслуживает военные ритуалы, а вечером развлекает публику. Гражданские духовые оркестры появились потом, позже. А сначала был военный оркестр, и он был как бы центром культуры. Так же и здесь, в Омске, было. Читаешь историю: Кадетский корпус, оркестр на плацу, а вечером садятся и развлекают публику танцами.
Собственно говоря, мы вплотную подобрались к Василию Ивановичу Агапкину, который рано потерял родителей и в качестве беспризорника бродил туда-сюда, набрёл на оркестр, заслушался, засмотрелся, какой-то музыкант его заметил: ну-ка, иди сюда, мальчик. Нравится? Какой инструмент нравится? Вот этот? Ну-ка, пойдём. Так он стал музыкантским воспитанником, постепенно учился игре на инструменте, потом музыкальной грамоте, его определили в школу, затем в училище, окончил его.
— И стал российским и советским композитором.
— Всемирно известным.
— Случайности неслучайны?
— Да. У меня давно зрела мысль сыграть концерт из таких произведений, которые, так сказать, ближе к истокам, ближе к происхождению духового оркестра.
— То есть к традиции?
— Да. На сегодняшний день большую часть репертуара духового оркестра составляют так называемые переложения. То есть берётся произведение либо симфоническое, либо эстрадное, либо роковое и делается для духового оркестра переложение, аранжировка. Мы с успехом исполняем и классические произведения, которые были написаны для струнного или симфонического оркестра, и эстрадные, которые были написаны вообще только для ритм-секции: гитара, клавишные и ударные.
— И джаз?
— И джаз. Кстати, духовой оркестр — это универсальный инструмент. То есть если, допустим, есть джазовый оркестр, эстрадный, в чём его отличие от духового? Прежде всего это ритм-секция, то есть клавиши, гитара, бас-гитара плюс ударные. Это и составляет ритм-секцию. И она несёт на себе основную нагрузку. А духовые – они как краска. Духовой оркестр тем и сложен, что изначально в нём не было ни гитары, ни бас-гитары, ни клавиш, а были только духовые инструменты и ударные. И, соответственно, средствами аранжировки нужно было сыграть всё, что нужно, – и мелодию, и аккомпанемент, и какие-то подголоски и т. д. С другой стороны, именно такой оркестр и универсален, в нём одинаково хорошо звучат и эстрада, и классика, и современная музыка.
У нас был опыт, играли мы современные произведения, но это отдельная история. Скажем так, на современную музыку публика нужна, не каждый воспримет. А у истоков духового оркестра именно музыка, написанная композитором конкретно для духового оркестра. У нас, кстати, есть композиторы, и сейчас они тоже есть, которые пишут именно для духового оркестра. И это совсем другая история. В частности, вот Василий Агапкин и был композитором, который писал для духового оркестра. Мне очень хотелось сделать такой концерт, который был бы посвящён истокам духовой музыки, Василию Агапкину, Семёну Чернецкому, который тоже писал такую музыку. В данном случае у нас юбилей Агапкина, поэтому мы больше будем, конечно, играть его музыку.
— То есть это синтез двух юбилеев – и филармонии, и композитора?
— Да. На тот момент, когда я задумал этот концерт, у нас, конечно, уже кое-что было. Но я понимал также, что где-то надо брать ещё материал, прежде всего нотный. Понятно, что у всех и везде есть «Прощание славянки», есть знаменитый вальс «Голубая ночь», он достаточно распространённый. А у Агапкина много чего другого, но где взять нотный материал? В принципе, у меня было к кому обратиться, и вдруг…
— И вдруг: о, чудо?
— Случилось это 14 ноября.
— Буквально недавно...
— Я получаю сообщение. Пишет незнакомец, посылает мне фотографию вот этой книги (показывает на книгу на столе). И текст такой: «Приветствую. Для вашего оркестра у меня лежит подарочная книга от правнука Агапкина. Могу отослать «СДЭКом», если укажете удобный пункт выдачи в вашем городе». Я сначала подумал, что…
— ...это шутка?
— Я подумал сначала, что это кто-то надо мной шутит. Я начал спрашивать, и оказалось, что правнуки Агапкина решили издать такую книгу. И, что удивительно, они начали безвозмездно её рассылать во все духовые оркестры, которые знали.
— Они не знали, что в планах духового оркестра Омской филармонии стоит такой концерт?
— Конечно, они не знали.
— Звёзды сошлись?
— Вы знаете, Дмитрий Парамонов, он работает в Новосибирском муниципальном духовом оркестре (у них это отдельный коллектив), они дружат с одним музыкантом, он давно уволился и переехал в Тюмень. Так вот, они общались на тему этой книги. И он сказал: «А пошли её ещё и в Омск, там есть Олег Юрьевич Романов…». Таким образом она попала к нам.
— Что вы чувствовали в тот момент?
— Очень трудно передать, что именно я чувствовал. Вообще музыканты, особенно духовики, это особые люди. Чудеса происходят. Тут, можно сказать, совпадение. А есть случаи с погодой. Духовой оркестр очень часто играет на открытом воздухе. Я рассказывал коллегам. Вот однажды мы должны были играть на площади у Законодательного собрания. С утра льёт дождь как из ведра. Мне звонят музыканты: ну всё, мы, наверное, не поедем. Я говорю: у нас задача, приехать мы обязаны. Навеса нет, дождь идёт, играть не можем, но приехать должны. Мы грузимся в автобус. Как только мы приехали — над этим местом расходятся облака, выглядывает солнышко. Мы расставляемся, садимся, играем положенный час. Как только мы заканчиваем играть, едва успели спрятать ноты — опять небо затянуло, пошёл дождь.
— У вас связь там какая-то с кем-то (показывает вверх).
— Я всегда говорю: музыканты — это Божьи люди. В старые времена военные знали: музыкантов лучше не обижать, потому что обидишь музыканта — будет тебе неудача.
— Очень сильный бумеранг от них, да?
— Да. Когда я служил в армии, тоже были разные подобные случаи. Связанный с погодой случай был недавно, 1 октября. Должны были играть на улице, мероприятие, флешмоб. Я говорю: это глубокая осень, холод, ветер...
— Пальцы замёрзнут, там же кнопочек много.
— И пальцы, и ветер ноты уронить может. Все же профессионалы, играют по нотам, а не наизусть. Пожалуйста – в этот день с утра «хлопнула» такая жара, что мы играли в одних костюмах, без курток, даже жарко было.
— И Агапкин случится с нами, с омичами.
— Вот она, книга. В ней содержатся различные сведения, которые, кстати, нигде больше не найдёшь, в том числе в Интернете. И, что очень важно (листая книгу), – ноты, авторские произведения Василия Ивановича Агапкина, тут уже хватит на целый концерт. И есть ещё раздел произведений других композиторов, которые аранжировал для духового оркестра сам Агапкин.
— Здорово!
— Интереснейшие произведения! Василий Иванович прекрасный мелодист, у него мелодии, узнаваемые по стилю. Послушаешь «Прощание славянки», вальс «Голубая ночь», он очень популярный. Кстати, достаточно сложный вальс. Публика, незнакомая с автором, изумляется: какая красивая музыка, кто автор?! И удивляются, что это Агапкин, они знают только его «Прощание славянки». А он ещё много чего написал! Издатели пишут: то, что они нашли, это примерно половина того, что он написал. Почему? То, что он писал, бывало, существовало только в единственном экземпляре.
— То есть утеряно?
— Да, многие ноты утеряны. Некоторые произведения из этой книги восстановлены по записи. Есть аранжировщики, которые ставят запись, слушают и записывают. Это не так просто, это огромный труд. В эту книгу вложен огромный труд. И, однако, это где-то лишь половина...
— Это сокровище.
— Да! Вот что я хотел сказать. Сейчас есть современные средства нотопечатания, нотные редакторы, они у каждого сейчас есть в компьютере. В ходу две такие программы: Sibelius и Finale. Вторая американская, её сейчас закрыли. Музыканты в основном пользуются «Сибелиусом». Мы пересылаем друг другу файлы, я их могу извлечь, отредактировать, переделать для своего состава. И это всё сохраняется если не в бумажном виде, то в электронном. А во времена Агапкина такого не было, всё всё делали вручную, скрипели пером. Вот композитор написал партитуру, отдал переписчикам, которые переписывали от руки, например, один экземпляр. Есть авторская партитура, и случается, где-то часть нот потерялась, часть куда-то переехала, и всё.
— Когда мы можем ожидать этот концерт? Уже известна дата?
— 16 февраля состоится этот концерт, который называется весьма оригинально: «Виват оркестр!». Я по этому поводу всегда вспоминаю Жванецкого. Он говорил: «Я так хочу влиться в десятитысячный отряд писателей, поэтому хочу писать с эпиграфом, а эпиграф такой: «Я рад, что своей жизнью подтверждаю чью-то теорию». Прохожий: «А далее произведение, никак не связанное с эпиграфом, как и положено в большой литературе». Так же и тут. «Виват оркестр!», но речь пойдет о духовой музыке, о композиторе Василии Ивановиче Агапкине и не только, у духовой музыке тех лет. Прозвучат не только марши, но марши в том числе.
— Мы же следуем традиции военных оркестров.
— Да, «Прощание славянки» — в общем-то знаковый марш. Об этом на концерте я буду, конечно, рассказывать, потому что это очень важно и интересно. Что Агапкин, что Семён Чернецкий, они же служили сначала в царской армии, а потом перешли, как говорится, к красным. Взять Агапкина, он везде был: оркестр НКВД, оркестр ГПУ...
— Аббревиатуры сопровождают…
— ...оркестр МГБ. То есть всегда что-то связанное с госбезопасностью. Я всё думал, почему он не упоминал марш «Прощание славянки». Он ведь получил такое распространение только с 1960-х годов, а до этого даже сам Агапкин о нём нигде не пишет и не рассказывает. Там такая ситуация. Во-первых, случай, по которому был написан этот марш, был связан с Балканской войной, 1912 год — год написания. Я много читал об этой войне.
— То есть вы прямо углубились в эту тему?
— Я читал о том, что это вообще за война была, каково отношение России к этой войне, а в книге есть ещё какие-то новые сведения. Василий Иванович в момент написания был в очень плохом расположении духа. Все указывают на повод: он посвятил этот марш Балканской войне, а на Балканах — болгары, греки, сербы, они все христиане. Балканы же в тот момент были под властью Османской империи, то есть мусульман. Это была фактически освободительная война, но она имела религиозную подоплёку. Россия официально не участвовала в этой войне, но были добровольцы, которые отправлялись воевать вместе с братьями-славянами. Победили в этой войне турок, но потом, уже после победы, передрались между собой за раздел территории...
— Как это бывает часто…
— Да, но это уже другая история. Так вот почему Агапкин был в таком расположении духа? У него скончался второй ребёнок в годовалом возрасте. Он приходил к себе, запирался, чтобы ему никто не мешал, он искал эту мелодию…
— Куда выплеснуть свои эмоции.
— Да. В общем-то марш чаще всего бывает мажорный, а этот марш в миноре. Обычно как: куплет — припев. А здесь куплет и два припева. Я прочёл это в книге, про это больше нигде нет.
— То есть первоисточник такую даёт информацию?
— Да. Мы просто на это не обращали внимания. Мы играем и играем. Я даже стал напевать и фиксировать: да, это куплет, это припев, а это ВТОРОЙ припев. И это удивительно и нехарактерно, даже уникально! Разные мелодии, разный характер.
— Какую-то изюминку, что-то вы открыли для себя?
— Конечно. И мы попробуем (я надеюсь, получится) сыграть. Как я уже говорил, этот марш вошёл в обиход только с 60-х годов, и мы его все, кто служил, знали по инструментовке Леонтия Дунаева. Это традиционная, очень красивая аранжировка, мы её тоже хотим поиграть. В двух вариантах. Но есть аранжировка самого Агапкина.
— Это будет здорово, может, даже на контрасте.
— Эта аранжировка другая, и придётся поработать над ней именно в авторской редакции. На тот момент были такие инструменты, которых сейчас в нашем оркестре нет. То есть придётся немножко приспособиться. Но в основном это будет авторская аранжировка, в том числе и по форме.
— Что планируете, может быть, какие-то ещё концерты и программы? Приоткройте завесу, пожалуйста.
— Мы стараемся планировать, и на перспективу тоже. Это не так просто: нужно подобрать ноты. Сейчас мы общаемся с хоровой группой Омского губернаторского детского ансамбля…
— ...под управлением Раисы Семёновны Костиковой.
— Совершенно верно. Речь о концерте аж в феврале будущего, 2026 года. Концерт будет посвящён 100-летию композитора Шаинского. А Шаинского без детского хора весьма трудно представить. Это был великолепный композитор-песенник. А раз это дети, то нужно заранее посмотреть эти произведения, какая там тональность, удобная ли, какая форма.
— И потом, они же растут, там тоже изменения.
— Да. И всё заранее планируется: такая тональность, такая форма. Затем я уже связываюсь с аранжировщиком и заказываю аранжировку для духового оркестра в выбранной тональности, форме. Так постепенно формируются такие концерты. Ещё о будущем. Я очень давно мечтал сыграть музыку из «Приключений Буратино». Есть такой фильм. А ещё «Бременские музыканты»…
— Замечательный. Я его так люблю!
— И тут мы тоже начинали понемножку. Сначала несколько номеров, потом ещё и ещё. В результате наши «Бременские музыканты» уже несколько раз повторялись, как на пластинке. Есть мультфильм, а есть пластинка, где имеется также рассказчик и эта же музыка. То же с «Приключениями Буратино». Есть фильм и пластинка, где есть рассказчик и звучит музыка. Великолепная музыка, чудесные песни!
— Это всё на будущий год?
— Да, это будущий сезон. Это концерты для детей, не для взрослых. Потому что дети – это наше будущее, это наши будущие слушатели. Мы стараемся по мере своих возможностей и сил создавать максимально интересные программы именно для детей. А в ближайшее время кроме Агапкина у нас будет ещё один концерт, который, надеюсь, у нас получится. Он будет в начале апреля и посвящён патриотической тематике. Одно из отделений этого концерта – дефиле. Первое отделение «сидячее», мы сидим и играем, а второе будет такое…
— Активное?
— Именно. Приедет постановщик, который нам ставил дефиле на поездку в Канны на Фестиваль русской культуры. Там такая история. Я говорю: ребята, мне уже страшно. Они говорят: почему? Я отвечаю: ну, духовое искусство в Европе — это национальный «вид спорта», то есть только ленивый в дудку не дует. Именно тогда подумал, что нужно что-то играть…
— Своё?
— ...да, на наши, русские народные темы. А потом надо делать дефиле. Просто сидеть и играть — там никого этим не удивишь. Вот если сделаем дефиле, это будет интересно.
— Нужно отличаться?
— Да. Тогда были и большие средства вложены, и трудозатраты были значительные. Поставили дефиле, оно было великолепно показано в Каннах, а потом несколько лет жило и здесь. Но, увы, состав менялся, это не так просто. Бывает, звонят и спрашивают: а вы не можете ещё раз нам это дефиле показать? Я отвечаю, что с удовольствием, но, во-первых, его надо постоянно репетировать, это ведь не только игра, а во-вторых, у нас большая часть состава с тех пор сменилась. То есть тех, кто помнит первое дефиле, можно по пальцам руки пересчитать. Остальные все новые. А сейчас будет ставиться не уличное дефиле, а сценическое. Оно немного сложнее.
— Здесь ещё и игра света?
— Не только игра света.
— 5D, наверное, будет?
— Это сложнее, одно дело на улице, там свои законы. Но надеюсь, что всё получится.
— Олег Юрьевич, после Великой Отечественной войны был заметен подъём в духовой музыке, да и вообще в искусстве.
— Везде!
— И всегда, наверное, так после тяжёлых лет?
— Появляется потребность.
— Это закономерно?
— Появляется потребность, тяга людей к прекрасному. Сейчас мы наблюдаем то же самое. Люди к нам приходят с удовольствием. Я всегда так говорил: если хотя бы один человек из зала после нашего концерта выйдет в мир…
— ...который бушующий.
— Да, за стенами концертного зала. И решит — вот буду я жить по-другому. Кому-то лишний раз улыбнётся или сделает какое-то доброе дело, которого он раньше не совершал. Он послушал музыку — и что-то в нём шевельнулось. Вот если это происходит, значит, мы выполняем то, что мы должны. У каждого из нас есть какое-то предназначение.
— Своя миссия?
— Да, это значит, мы не зря едим свой хлеб и всё делаем правильно. И, по счастью (ибо я общаюсь с публикой), это всё-таки больше одного человека (улыбается). И это радует!
— Это здорово, конечно!
— Что я ещё хочу сказать. Мы очень много читаем о разных артистах, которые работали в то время. Каждый артист как будто бы появлялся именно в то время, в которое ему надо было появиться. Мы тоже живём в такое непростое время, время перемен. И очень важно и для музыки, и для жизни сохранить вот это равновесие. А вся музыка, вообще всё искусство, строится на равновесии.
— Баланс!
— Да, баланс, гармония. У нас организация называется «филармония», то есть любовь к гармонии. И когда в жизни это наладится, то всё будет как на концерте.
— Всё будет!
— Да, мы сыграли, публика поаплодировала, наступила мирная жизнь, все пошли заниматься своими мирными делами.
— Дождёмся!
— Дай Бог, дай Бог!
— Вам спасибо за беседу, было приятно!
— Взаимно, спасибо!