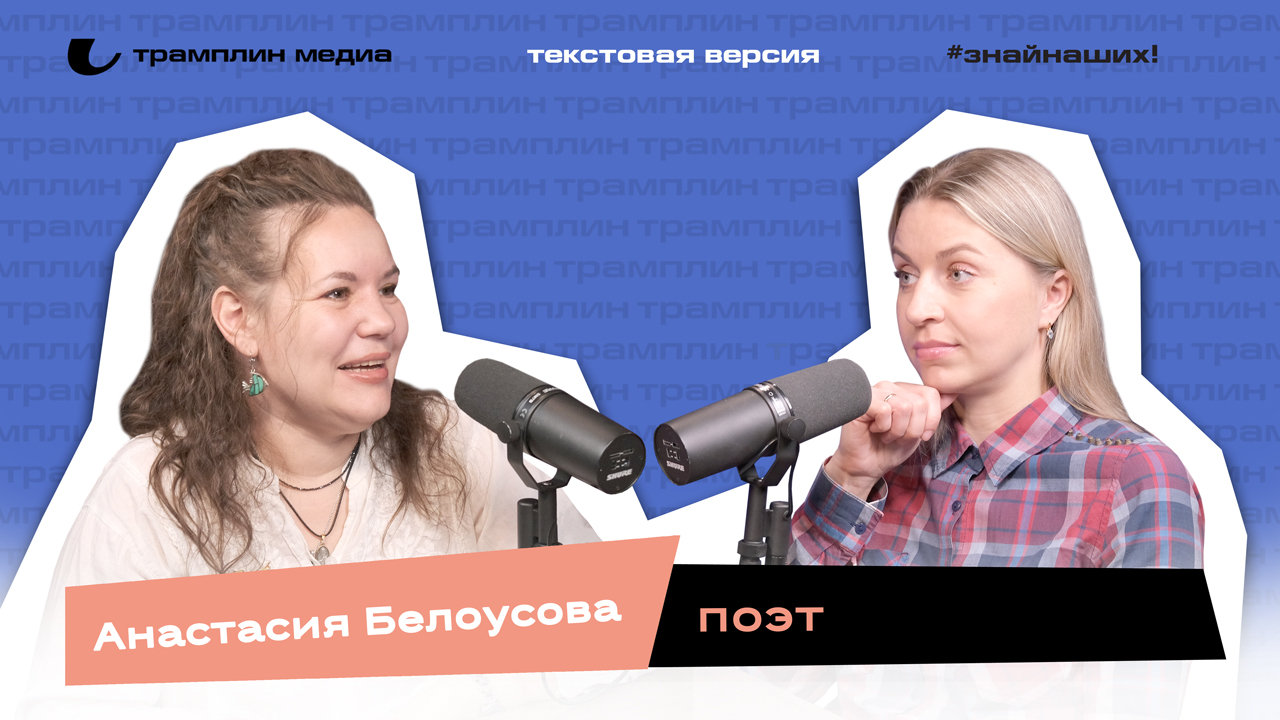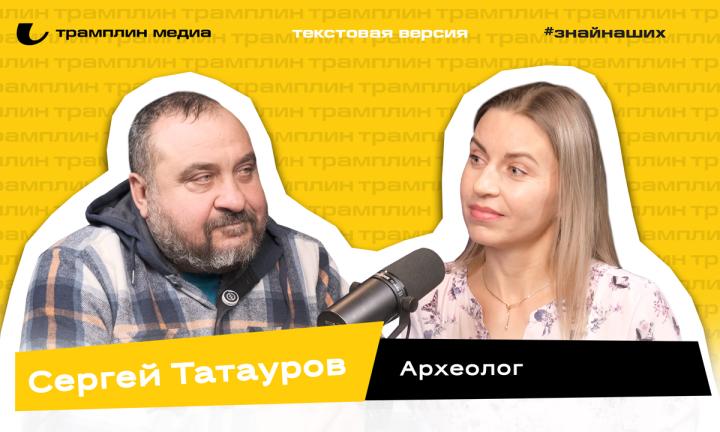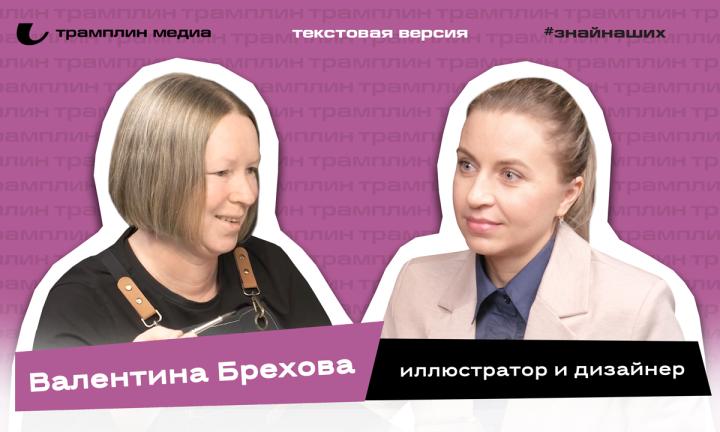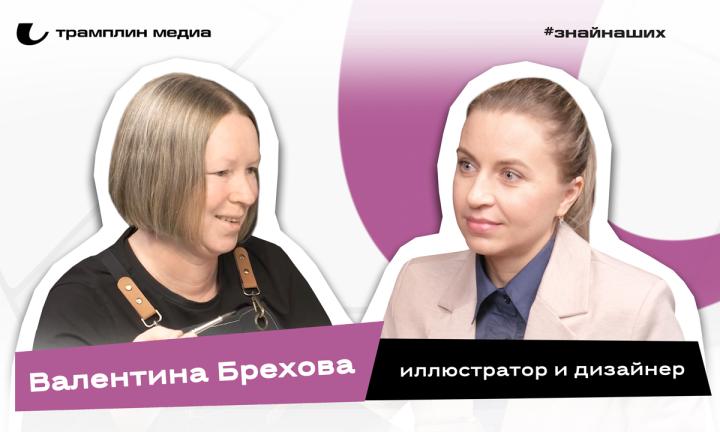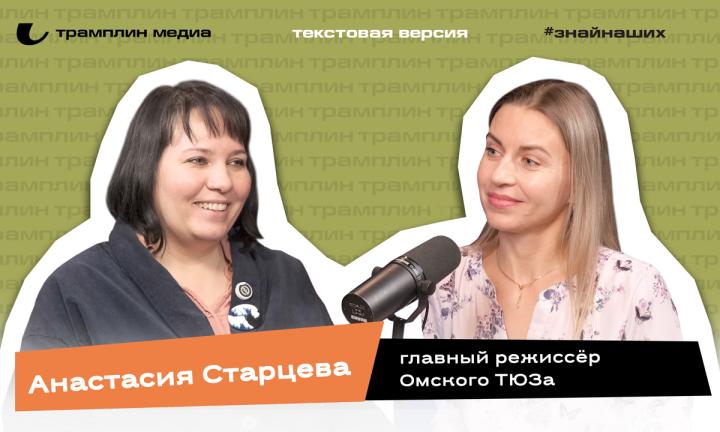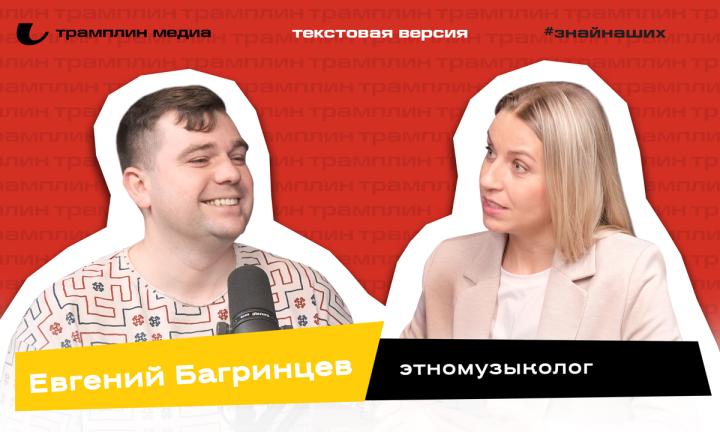Дата публикации: 26.04.2025
Для тех, кто любит читать, текстовая версия подкаста «Знай наших!» с поэтом, лауреатом многих литературных премий, руководителем детской литературной студии «Крылья» лицея № 64 Анастасии Белоусовой.
— Анастасия, здравствуйте!
— Здравствуйте!
— Одним из последних знаменательных событий в литературном мире стал Всероссийский форум молодых писателей, который прошёл в Челябинске. Вы приняли в нём участие. С чем выступали?
— Я делала доклад на тему своей профессиональной деятельности. Сейчас я педагог, веду детскую литературную студию «Крылья». За полтора года моей работы с детьми накопился практический материал. Я всё-таки практик, адаптировала кое-какие наработки моих коллег и делала доклад как раз по этим наработкам. Отслеживала, как и какое происходит развитие у детей в процессе работы, какие акценты, какие интересные вещи с ними происходят.
— То есть это не только для писателей, но ещё и для педагогов, которые учат детей?
— Да. Вообще, этот челябинский форум характерен тем, что там проводится единственная в России конференция по литературной педагогике. В этой конференции участвуют не просто педагоги, а профессиональные писатели, поэты, которые ведут детские литературные студии в регионах. И вот для них была создана эта площадка для обмена опытом. Кто-то выкладывает теоретическую базу, кто-то — свои практические наработки, потом мы всё это собираем в сборнике «Литературный курс», редактором которого я являюсь. У нас есть раздел «Технологии», там всё это публикуем. Потом, естественно, выкладываем в электронном варианте. И у всех есть возможность познакомиться с этими материалами, пользоваться ими при работе с детьми.
— В Омске очень много литературных сообществ, мелких и побольше. А как действительно научить писать? В основном люди как пишут, так и пишут...
— Есть такое понимание, что писать хорошо научить невозможно, должен быть талант. Но мы должны понимать, что литература — это не только про писательство, не только про создание произведений. Это ещё и развитие. У меня студия с детьми всего второй год, а есть коллеги, у которых дети занимаются по десять, по двенадцать лет. И вот о чём они говорят: где-то к восьмому классу детей «разбирают» физматы, различные серьёзные школы, потому что они отличаются от обычных подростков тем, что у них лучше развиты нейронные связи, они лучше запоминают материал, они лучше ориентируются, они вообще решают задачи другого уровня. Что такое поэтическое сознание? Это метафорическое сознание, это умение большой объём информации «запаковать» в маленькую строку, в маленький объём. И если даже человек не поэт, не пишет он стихи, но мыслить метафорами ему же никто не запрещает, правильно? И вот это мышление помогает ему всё «упаковать».
— Для этого введён какой-то специальный курс у вас в лицее № 64, вы его разработали? Или какие-то предметы?
— Не прямо специальный курс, потому что я же всё равно ориентируюсь на тех детей, которые приходят. И мы понимаем, что у нас, во-первых, огромная культурная разница вот с этими детьми. Я вот, например, 1982 года рождения, у меня очень большая разница уже с подростками, а с этими детьми ещё больше. То есть получается, что их родители — мои сверстники, иногда даже младше. И здесь нужно сначала «наладить общекультурный код» — язык, на котором мы будем разговаривать, потому что объяснять даже какие-то формы невозможно, если мы не читаем одни и те же произведения. Я, конечно, смотрела «Гарри Поттера», но перечитывать его я пока не готова, пусть меня закидают шапками. Поэтому я ищу какие-то другие варианты. Мы на занятиях в школе изучаем произведения, я даю какие-то задания, то есть спрашиваю, что не читали в рамках литературной программы, уточняю работу, разговариваю с преподавателями, для того чтобы понять, как мне с ними взаимодействовать. Сначала было трудновато, сейчас уже проще. Сейчас мы уже друг друга понимаем, и получаются очень интересные результаты.
На самом деле ребёнок начинает сочинять, как только он начинает ходить. Не замечали, маленькие дети придумывают новые слова, рифмуют, какие-то странные песенки придумывают и поют их. Как раз эти нейронные связи они сами себе разрабатывают, и когда они попадают в какую-то среду… Я замечала, вот у меня дети ходят — пять человек одновременно, а потом к ним присоединяются ещё три человека, и они отличаются (друг от друга). То есть первые пять — они уже прокачанные, они разговаривают, общаются, они не замкнутые, а эти ещё... осторожные. Потом они понимают, в чём суть, и тоже начинают творить. Кстати, это ещё и про дисциплину мышления — выбирать, о чём думать. Потому что мы выбираем — что читать, как общаться. То есть, например, у нас сидит там шесть человек, вот они все одновременно выкрикивают. Я говорю: давайте будем учиться дискуссии. А что такое дискуссия? И потом уже начинается вот эта работа. У нас даже взрослые люди не знают, что такое дискуссия или круглый стол, а детей уже можно этому немножко научить, чтобы было понимание, как вообще разговаривать, общаться.
— В 2014 году была издана ваша самостоятельная первая книга «Берег». А как складывался ваш путь как литератора, как поэта?
— Складывался поэтапно, не сразу. Я и сейчас не могу себя назвать поэтом. Я просто пишу и стараюсь делать это так хорошо, как я считаю возможным. И вижу для себя ещё какие-то возможности для развития, их очень много. Первая книга получилась такая маленькая, А6 формата, там всего 50 стихотворений за 10 лет. То есть я не такой плодовитый поэт, который выдаёт по 15 стихотворений в месяц.
— Но тем не менее они есть.
— Да, они есть. И мне захотелось всё это собрать в небольшую книжку, чтобы даже как-то освободиться, наверное, и пойти дальше, потому что каждая книга, мне кажется, для меня — это какой-то пройденный этап жизни. Вторая книга вышла в 2023 году, где-то 28 декабря 2023 года. То есть прошло практически десять лет. Вторая книга — это тоже какой-то этап.
— То есть первая в 2014-м, а вторая в 2023-м?
— Да.
— О чём вы пишете?
— Я пишу о любви, о жизни, о своей земле. Очень много эмоций всегда в стихах. Я всегда говорю, что не нужно человека, поэта соединять с героем лирического произведения. Через нас это проходит, мы переживаем, мы пишем, но мы не одно и то же.
— Но это в вашем случае, а многие ведь олицетворяют с собой.
— Возможно, да. Я всё равно лирического героя старалась бы выделять. Я, даже когда читаю чью-то поэзию, никогда не соотношу это с человеком, с самим автором именно как с личностью, потому что всё-таки он творит и может почувствовать чью-то эмоцию, может почувствовать мир в целом, и это тоже интересно — как это происходит.
— То есть о чьих-то чувствах?
— Да. Но он всё равно проводит это через себя и говорит от первого лица. И это очень интересно, потому что, когда начинаешь разбирать эти вещи, это начинаешь понимать.
— Вы как-то говорили, что стихи могут разрушить автора. Речь о каких-то определённых стихотворениях, наверное?
— Ничто так не поднимает, не созидает, как слово, ничто так не разрушает, как слово. Поэтому нужно очень осторожно к этим вещам относиться и соблюдать вот такую творческую безопасность, понимать, о чём ты пишешь. Кстати, современная поэзия очень много «тащит» в Интернет: когда у человека внутри боль, она его разрушает, он начинает «выписываться». Это как у психотерапии, такая есть практика, у него получается что-то немножко в рифму, немножко складно, и он уже думает, что он поэт. Всё — и понеслось. И потом это всё у нас на страницах ВКонтакте, в поэтических сервисах выдаётся за поэзию. Всё-таки поэзия — это немножко больше, это когда тебе больно, но ты преодолеваешь, даёшь этому какой-то позитивный выход и ещё как бы осмысляешь общечеловеческое. То есть это другой подход. И часто такие стихи не выставляются в Интернет. У меня даже есть несколько таких стихотворений, я их на публику не читала ни разу, потому что они не для открытого доступа. Это такая интимная вещь.
— Это выплеснуло всё?
— Да. И если это стало стихотворением — ну хорошо, если не стало — ну, значит, я это просто убираю, и пусть оно там лежит.
— На ваш взгляд, любое стихотворение, творческий продукт, так назовём его, должен быть созидающего характера?
— Да, конечно. Вот у нас недавно было 12 апреля, День космонавтики: великая страна с великой космической историей, которой нет ни у одной страны в мире. А дети приходят с рассказами про всяких жуконямок, инструдеров, чёрных людей, странных аниме. То есть всё, что они могли найти в телефоне и в играх, становится персонажами их рассказов. Я тогда подумала, дай-ка я сделаю в этом году тему космоса — и задаю более высокую планку: а давайте теперь поймём, какие реальные персонажи могут существовать в космосе. И они уже называют: бактерии, чёрные дыры. Они сразу думают: а пришельцы смогут существовать? То есть они уже начинают мыслить более…
— ...структурно и правильно?
— Да. Даже не правильно, а критически. Потому что у детей же нет критического мышления, они всё воспринимают как первый слой, за чистую монету. И потом уже мы начинаем работать с этим, имея базу реальных моментов, сочинять что-то настоящее.
Задала вопрос: а какие вообще бывают космические путешествия? Они называют: путь, полёт, прогулка и так далее, а я участвую с ними в работе, и я говорю: вот есть такой вид путешествия, как космическая одиссея. Они: а мы не знаем, что такое одиссея. Я: вы знаете, кто такой Одиссей? — Нет, не знаем. Они не знают, кто такой Одиссей, и мы начинаем с ними изучать эту тему.
— Исследование такое?
— Да, настоящее исследование. Я нахожу для них мультик, греческий, восемьдесят какого-то года, очень хороший, с хорошим переводом, чтобы подходил под их возраст. Потому что история «Одиссеи» достаточно кровожадная и такая сложная. Мы его смотрим, и у нас появляется общее поле, в котором мы уже можем что-то придумывать. Они узнают, что такое циклопический, потому что есть Циклоп, что такое «между Сциллой и Харибдой», что такое гнев богов. Мне вот было очень интересно — когда я начала рассказывать про Троянского коня, которого придумал Одиссей, (ребёнок спросил): «Так это человек, это он придумал этого коня?» То есть он про Троянского коня знал, а про Одиссея не знал.
— Теперь все пазлы сложились?
— Да. А этого Троянского коня во все мультики вставляют, чуть ли не в каждый сценарий про исторические вещи есть этот Троянский конь. Троя, не Троя — полная мешанина в голове получается. Маленький человек не понимает, что на самом деле есть готовое произведение некоего Гомера.
— Всеми любимого, особенно филологами (обе улыбаются).
О чём пишут сегодняшние дети, что в их произведениях насущного?
— Вы знаете, дети, которые задаются вопросами, пишут очень серьёзные вещи. Я с таким удовольствием всегда читаю рассказы и стихи: любовь, преодоление, предательство, поиск своего места в жизни. Вот на нашем конкурсе «Крылья» потрясающий рассказ «Джедай Пашка» про СВО. Ребёнок из 8 класса, если я не ошибаюсь. Я коллеге Наталье Юрьевне (Наталье Юрьевне Кузнецовой – педагогу, редактору, почётному работнику общего образования России, куратору медиацентра «СтильНО» на базе лицея № 64. — Прим. ред.), которая у нас основала этот конкурс в 64-м лицее, говорю: этому рассказу даже взрослые бы позавидовали, как это всё написано и сделано.
— Настолько глубоко, осознанно?
— Да, человек талантливый. И видно, что это написал ребёнок, в том-то и дело. Потому что очень часто на этих конкурсах родители, желая добра своим детям, дописывают за них или редактируют. Руку взрослого всегда видно! Я всё-таки всегда советую родителям и преподавателям не дописывать за детей, а дать возможность понять ребёнку, как он соотносится с произведениями других детей. Для этого, например, у нас в конкурсе создан сайт omskstilno.ru, где выложены все работы за 12 лет. И каждый ребёнок в текущем году или в будущем может зайти в эти произведения, прокомментировать, почитать и сделать свои выводы: что он не так делает, чем вот это произведение лучше, чем другое произведение хуже. Это очень интересно. Насколько я знаю, никто так работы не собирает, ну, сборники, может быть, издают. Но что такое сборник? Сборник — это то, что попадает человеку в руки, а человек сам читает, передаёт близким, знакомым. Это такой первый круг его ареала. А Интернет уже даёт нам возможность познакомить со своим творчеством всех желающих.
Те, кто занимается литературой, не всегда становятся писателями, и даже хорошо, что они ими не станут. Потому что быть писателем — это особая история, в которой человек вынужден подстраиваться под какие-то вещи, которые ему, возможно, не очень нужны. А быть хорошим математиком, при этом умея читать, это ведь здорово! У меня вот занимается одна девочка, и она за полгода ничего не написала, просто приходит за компанию, играет с нами в игры, что-то там пишет, но она не создаёт рассказы, какие-то другие произведения. Она говорит: «А я ничего не пишу». Я говорю: «Ничего страшного, хорошие читатели нам тоже нужны». Понимаете, человек, который может оценить то, что пишут другие, — это ведь тоже классно! А потом она неожиданно, вот на последнем занятии, вдруг создала сказку, причём от начала и до конца сказка была построена по всем канонам. Это всё как-то «с поля» считывается: то есть мы там драматургическую кривую, там стихотворение почитали, там обратились к какому-то небольшому произведению. Они же у меня и по очереди читают, делятся своими впечатлениями от прочитанного, и нарабатывается такой пул мышления, которое потом уже помогает дальше ребёнку как-то осваивать этот мир. Я же тоже, будучи в школе, не писала. Я начала писать только в 17 лет. И слава богу, что я в школе не писала, потому что я занималась другими вещами. У меня была художественная школа, мы с сестрой играли в шахматы, у меня второй разряд по шахматам, мы занимались спортом, театр… То есть много всего, что формирует сознание, вот эту культурную составляющую, а потом мы уже идём в этот мир. Может быть, я никогда бы не начала писать, но просто так сложились обстоятельства.
— Сегодня вы публикуетесь во многих изданиях. Недавно, кстати, наш «Трамплин» тоже публиковал на литературных страничках. А как в вашей жизни появилось небо и самолёты? У девушки! (улыбается)
— Это было такое внутреннее желание летать. Я не знала, с чего начать, как к этому подойти. И как-то случайно вдруг узнала, что у нас в Омске есть такой обучающий центр. Сейчас не знаю, обучают они пилотов или нет. У меня как раз были в жизни перемены: я уже развелась, но ещё не вышла замуж, я была свободна, могла выбирать что-то, хотелось чего-то нового. И я пошла учиться. Учитывая то, что я всё-таки больше гуманитарий, мне техническая часть давалась тяжеловато, я (изучала) физику и вместе с ней аэродинамику — я брала школьный учебник 8, 9 класса по физике и прямо с нуля его снова прочитывала.
— Ничего себе!
— Все эти моторы… по устройству самолёта тоже. Когда мы сдавали экзамен, я брала с собой все распечатки. У меня есть знакомый, который очень хорошо разбирается в моторах, в автомобильных и в разного рода других. Мы с ним собирались, и он мне объяснял прямо на пальцах, что, куда, зачем, почему. Потом я уже начала понимать...
— Пригодилось это где-то?
— Ну конечно, я же автолюбитель.
— Сегодня летаете?
— На самолётах летаю редко, нет такой финансовой возможности и времени. Потому что нужен практический целый день: поехать, договориться, взять в аренду самолёт, полетать. Но в 2023 году я через центр занятости получила дополнительную специальность оператор дронов мультироторного типа. Выучилась управлять дронами, накопила оборудование, тоже поэтапно покупала его, потому что всё это недёшево. Самый маленький дрон со всеми батарейками, пультами, радиочастями — где-то около пятидесяти тысяч уходит.
— Дорого.
Сейчас вот это всё — эти полученные знания, навыки — вы можете использовать в школе, дополнительно занимаясь детьми? Это же тема очень актуальная.
— Да-да. Мы сейчас смотрим в эту сторону. Мы разговаривали с директором (лицея № 64. — Прим. ред.) Мариной Леонидовной Селезнёвой. Она очень заинтересовалась, тем более у меня, получается, есть специальное образование педагогическое, потом авиа, где есть все необходимые допуски, и уже конкретная специализация по дрону. Смотрим в эту сторону, программу я пишу.
— То есть у творческого человека полёт фантазии неограниченный.
— Мы должны понимать, что дело даже не в творческой составляющей, а в этом умении абстрагироваться и мыслить образно. Потому что тот же дрон летает, извините, практически в пяти плоскостях. Например, взрослому человеку очень тяжело освоить вот эту специфику, нужно приложить определённые усилия. А дети учатся очень быстро, потому что они ещё не зашорены в этих вещах. И когда у ребёнка дополнительно есть понимание, что он может мыслить вот так, объёмно, он представляет, как он будет летать, и потом хорошо летает. В авиации даже есть такое упражнение, где ты полностью представляешь свой полёт, его репетируешь, то есть такая пространственная ориентировка, сидя у себя в кресле. Такие занятия действительно потом помогают летать лучше. Даже есть выражение: «пять посмотренных посадок — одна твоя хорошая». То есть ты смотришь, как другие летают, но для этого тоже надо уметь не просто смотреть, как картинку, а обрабатывать информацию: а как, а что, а куда он присаживается, какой ветер... И одновременно просчитывать и интуитивно чувствовать, что происходит.
— Литературное мышление здесь помогает?
— Конечно! Оно-то как раз и помогает. Я очень часто говорила инструктору: объясните мне! Через язык. Он мне объясняет, и я начинаю потихоньку понимать. Мне кажется, в современном обществе люди забывают, что такое слова, именно произнесённые вслух. То есть очень много гаджетов, переписок, чатов, где люди общаются удалённо, не считывая всю другую информацию.
— И часто просто смайликами.
— Да.
— После полётов у вас стихотворения рождались?
— Нет, ни разу. Я вообще в этом плане странная, наверно.
— Там такая романтика…
— Нет там романтики. Там работа. (Обе смеются.)
— Там, наверное, у пассажира может быть романтика.
— Я, во-первых, не могу ещё пассажиров возить, я могу только с инструктором летать либо после проверки с инструктором возить себя. То есть нужен допуск. А во-вторых, там действительно работа. Я же не на «Боинге» летаю, а на обычном легкомоторном самолёте. Это тоже требует постоянного включения. Если ты, например, едешь на автомобиле и что-то не так, ты вынужден остановиться, просто остановишься и всё. А если здесь что-то не так, ты же не можешь просто остановиться...
— В тонусе постоянно находишься.
— Да.
— Какие грандиозные цели вы ставите со своими детьми сама как молодой писатель и как наставник, какими можете поделиться с нами?
— Прямо грандиозных нет. Я отдаю предпочтение регулярному труду, регулярной работе, потому что именно она даёт самые большие плоды. Вот они ходили бы каждый раз, не пропускали, а они же очень загружены, кто на скрипке, кто на бальных танцах, кто плаванием занимается...
— Разносторонние.
— Так лицей такой потому что! Им сложно найти время. В данном случае это не я выбираю расписание, когда у нас будет занятие, а я обхожу всех ребят, собираю всю информацию, понимаю, какое время будет для них удобнее, и в это время мы и занимаемся. Вот так это происходит. Есть один ребёнок, он раньше после школы шёл домой обедать, а сейчас ему так хочется ходить в студию, что он после занятий бежит в школьную столовую обедать, а потом на плавание. Потому что он что-то получает, то, что он нигде больше не может взять. А я думаю, что здесь имеет значение именно общение, то есть мы с ним разговариваем и он с нами разговаривает.
— Есть потребность у детей, это чувствуется?
— Да. Они мало разговаривают. Они много болтают, выдают много информации, но они не могут поделиться самым сокровенным, например. Или у них какие-то мысли очень странные, и они думают, а где вот эти мысли (высказать)... И вот они приходят ко мне и начинают выдавать, такие перлы…
— Прямо такая терапия.
— Для детей, наверное, ещё не терапия, потому что терапия — это, мне кажется, больше к взрослым, а скорее такой выхлоп, выход.
— Особенно в подростковом возрасте это так важно.
— Да!
— И когда родители вдруг не признают твои стихотворения. Это же частая история…
— Марина Александровна Безденежных (омская поэтесса и филолог, член Союза писателей России Марина Безденежных. — Прим. ред.) говорит: «Приходите к нам погреться!» Она про взрослых людей говорит. Я к ней нечасто прихожу, но иногда мне хочется прийти просто погреться от слова: вот этот литературный процесс, который идёт здесь и сейчас.
— А сложно выживать литераторам в нынешний век технологий, когда слов мало, а сказать хочется. И новое поколение, которое заточено на гаджеты...
— Я думаю, что не очень. Я думаю, что просто надо идти в ногу со временем. Для меня, например, группа, канал — это тоже возможность высказаться. Причём я не веду канал в таком ключе, что я буду выкладывать каждый день помногу. Вот у меня когда есть желание, возможность сказать — я говорю, когда нет — не говорю. Я даю себе эту возможность, потому что я поймала себя на такой мысли, что, когда ведёшь канал, вдруг начинаешь «загоняться»: хочется ещё говорить, ещё, ещё...
— То есть тут обратный эффект может быть?
— ...выкладывать, выкладывать, привлекать туда больше людей. И я задаю вопрос: зачем? Если у меня коммерческий канал, которым я буду зарабатывать, — это одна история, то есть тогда нужно продумывать, что я туда буду выкладывать, что я буду писать, писать бизнес-план, может быть, кого-то нанимать, то есть уже мыслить по-другому.
— То есть уже бизнес пошёл?
— Да. А если я создала канал, чтобы: я читаю какую-то книгу, например, мне интересно, и я вдруг подумала, а если я вот этим поделюсь, вот эти люди никогда эту книгу не прочитают, сто процентов, я уверена, один из тысячи, потому что сейчас слишком большой поток информации, чтобы читать ещё какие-то книги прошлых веков. Я оттуда выбираю то, что мне понравилось, и могу выложить, например. Или я вот недавно читала один из рассказов Михаила Тарковского, и там была такая история: выложены слова песни, и герой эту песню напевал. И мне так интересно стало, я зашла в Интернет, нашла эту песню, как она поётся, нашла фотографии, которые к этому относились. Оказалось, что это была очень популярная таёжная песня 70-х годов, по-моему, если не ошибаюсь. И я выложила такое мини-расследование.
— То есть вас впечатлило и вы хотите этим поделиться?
— Да, вот это и стараюсь делать в своём канале, чтобы это всё было так осторожно. И если замыкать нашу историю про гаджеты и про Интернет, то они должны быть именно помощниками.
— Как возможность?
— Да, как инструменты. Мне, например, ВКонтакте по несколько раз в неделю заваливают новые поэты: вот смотрите, добавляйтесь в мою группу. Заходишь, там уже столько человек, тексты идут сплошняком, такая «целлулоидная» поэзия: одно и то же, одно и то же, просто рифмованные строчки.
— Сложно назвать, наверное, это поэзией.
— Ну они называют (смеётся).
— Как сегодня вообще отличить поэта настоящего от «самозванца»?
— Нужно самому образовываться, чтобы не попасться на эту удочку, потому что это как с фильмами.
— То есть должна быть какая-то самокритика?
— Отсев информации. Вот как вы думаете, если вас не обучали эту информацию находить, отсеивать и понимать, что хорошее, что плохое, вы будете это делать?!
— Да нет конечно.
— Получается, с детьми точно так же. Если они не читают хороших книг… Я всё время спрашиваю: что вы читаете, принесите мне, покажите. Открываю, прочитываю — ну, нормально. Загуглю, посмотрю, что за автор…
— Сегодня надо много гуглить.
Вернёмся ещё раз к такому вопросу. Если анализировать какой-то срез, много ли талантливых, осознанных, готовых эту информацию отделять?
— Они есть. Есть желающие.
— Будущее у литературного омского мира, так скажем, есть?
— Конечно, это однозначно! Всё-таки мы этим и занимаемся, и люди это хотят делать. Люди хотят творить, люди хотят создавать произведения. Очень много кто хочет учиться, и они учатся. Они приходят, они спрашивают. Происходит обмен, общение. У нас сейчас очень много для этого делается.
— Это очень здорово! Спасибо вам за беседу!
Полную версию видеоподкаста можно посмотреть здесь