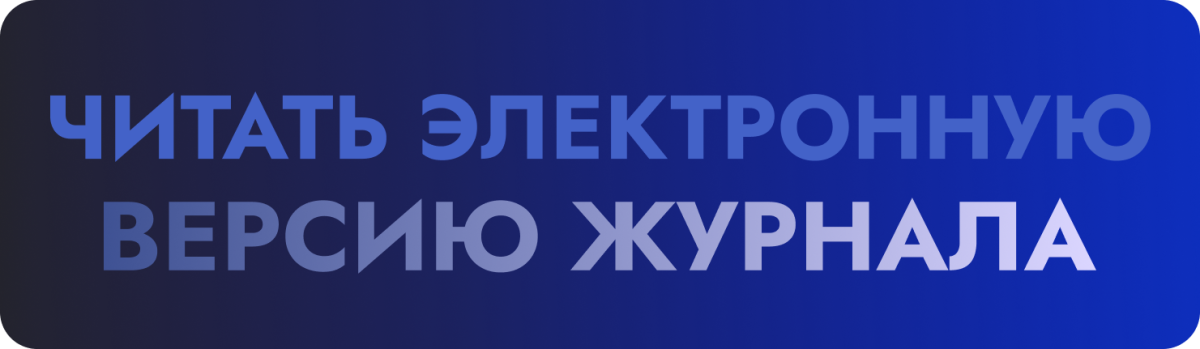Дата публикации: 15.07.2025
Почему Оскар больше не ценен, на какие фильмы должно тратить деньги государство, в чём секрет якутского кино и как развивать культуру киносмотрения – об этом интервью с Филиппом Кудряшовым, президентом Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России, председателем Комиссии Общественного совета при Россотрудничестве по вопросам популяризации российской культуры, традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания, членом Общественного совета Комитета по культуре Государственной Думы Российской Федерации.
Как вам Омск?
Мне хотелось увидеть вашу самобытность, я в Новосибирске бывал часто, в Иркутске, а в Омск приехал впервые. На экскурсии мне рассказывали, что если переставить буквы ОМСК, получится почти Москва, что у вас есть питерские дворики, что Омск был столицей… А зачем эти сравнения? Нужно хранить свою самобытность, самобытность внутри себя. У меня болит в этом смысле душа, да и режет слух, когда твой город сравнивают с чем-то. Ищи свои ценности, свои сокровища, их популяризируй и поднимай.
Похожая история и в кинематографе?
Да, региональное кино должно быть самобытным. Оно не должно быть похоже на голливудские или европейские фильмы. Вот вы включаете индийское, китайское, французское кино – и в каждом видите свои особенности. Так, собственно, и Россия должна внутри себя соединять самобытность и свой взгляд на трактовку литературного или сценарного произведения. Штампы, которые сейчас идут с экрана, не формируют своего зрителя, это формирует американского зрителя, просто жвачка. Обычному зрителю, если мы говорим о возрождении национальной кинематографии, важно видеть то, что ближе ему, где находятся его корни. И взгляд этот должен транслироваться через кинопроизведения, истории. Вот вы мне рассказали об омском художнике Белове. Он не пытался копировать европейских художников – он писал сибирскую природу, потому что она была ему близка, потому что он хотел сохранить свою родину. Кинематография тут ничем не отличается. Это точно такое же произведение искусства. По этому пути нам и нужно идти, и даже Запад рано или поздно это увидит. Сейчас у нас сложное время, культура отмены, но если работа будет профессиональной, её обязательно заметят.
И мы сейчас идём по этому пути?
Мы вышли на него, но не идём по этому пути, в кинематографии точно нет. Здесь у нас стоят задачи, сформулированные руководством, – кассовые сборы превыше всего. Помидоры на рынке тоже продаются. Бывают гнилые, бывают не очень. А как же качество? Для чего мы снимаем фильмы, чтобы сиюминутно заработать этот миллиард и вложить его в очередной фильм, который соберёт полтора миллиарда, но о нём через неделю никто не вспомнит? Был в нашей стране период, когда снимались такие фильмы – полный ширпотреб, но это было спасение для артистов. Например, непризнанный шедевр «Ширли-мырли», от которого потом все плевались. Но с каждым годом этот фильм становится ещё более ценным, чем он был в самом начале, потому что тогда это было просто ужас, как это можно – с экрана такие фразы! Но, откровенно говоря, это последнее кино, которое вышло на экраны и разошлось на цитаты. Я не могу вспомнить в современной России ни одного фильма, которое разошлось на цитаты.
«Капусточка, конечно, дело хорошее, но в доме нужно держать и мясные закуски!»
Вот именно! И мы это помним, и это у нас всплывает в голове. Но далее ни одного фильма с такой узнаваемостью не создано. «Ёлок» снято уже 11, но мы ни один не помним и цитировать не станем. Это о чем говорит? О том, что это не народное кино, это не кино, которое ложится человеку в душу и там остаётся. Есть ещё «О чём говорят мужчины», «День выборов» – вот они тоже разошлись на цитаты. Но это даже не капля в море, это вообще ничто для многонациональной России. Вот фильмы о богатырях – они собрали много денег, да, это модное, красивое кино. «Чебурашка» сделан хорошо с точки зрения технологий и сценария, 22 миллиона билетов были проданы на «Чебурашку». Но там нет ничего национального, все образы созданы на основе американских фильмов. Те же богатыри могут котироваться на западном рынке, но они ничем не отличаются от западных суперменов. Ну, написано там Россия, поменяй титры, надень на богатыря красный плащ – и получится Капитан Америка. У нас для многих фильмов музыку пишут сначала на английском языке, а потом переводят на русский.
А что делать? Как выходить из этого замкнутого круга?
Да он не совсем замкнутый. Я считаю, что сейчас надо отделить зёрна от плевел. Есть у нас коммерческое кино, и оно должно создаваться за собственные средства. Пусть компании вкладываются и зарабатывают на этом миллиарды. Как построена система: ты взял на кино субсидию в министерстве культуры, её возвращать не нужно. Государство не имеет прав на этот фильм – просто проспонсировало историю. Человек получил эти деньги, отработал, снял кино и весь заработок с проката забирает себе. Но мы забываем, что это должно быть кино, которое нужно сегодня государству. То есть это кино, которое изначально не должно быть ориентировано на коммерцию и выгоду в прокате. Оно может сделать кассу, а может и нет, потому что оно играет в долгую.
Детского кино у нас сейчас нет в принципе. У нас есть детское семейное кино – чтобы в кинотеатр приходили родители с детьми, смотрели кино, сами смеялись, радовались, и ребёнок заодно тоже что-нибудь найдёт для себя в картинке. Государственная поддержка должна идти исключительно к фильмам, которые занимаются созиданием. Откроем протоколы министерства культуры – я не уверен, что там есть даже 10% студий, которые находятся в регионах. Почему-то региональным студиям приходится открываться в Москве или договариваться с московскими продюсерами, чтобы получить субсидию в министерстве культуры. Сейчас мы ориентированы не на центр, а на регионы, такой посыл от президента России. Ну а где он в реальности? Мы боимся дать деньги регионам, потому что у них что-то не получится. А у них действительно сначала не получится – будет слабое кино, но это только сначала.

Но вот есть же феномен якутского кино – они же ухитряются как-то снимать неплохие фильмы?
А я вам скажу, почему якуты умудряются снимать неплохое кино. Потому что они с девяностых годов начали – они снимали еще на VHS. Я сейчас запустил программу, которая называется «Российское кино: путь к зрителю». В рамках этой программы разговаривал с режиссёром Любовью Борисовой. И по ходу съёмок выплыли воспоминания – наш оператор-постановщик в 90-х был в Якутии, зашёл на рынок. И там лежит целый ряд замороженной рыбы, которую режут на строганину. А рядом лежат диски с огромным количеством фильмов, которые создавали якуты сами для себя, для своей внутренней аудитории. Она рассказывала, как начинался якутский кинематограф – фильмы брали все местные кинотеатры, были хорроры, триллеры, всё с приставкой «первый якутский». Причём всё это на якутском языке. Так зритель рос постепенно вместе со кинематографистами. Вот недавно состоялась премьера фильма «Не хороните меня без Ивана» в Москве, его хорошо приняли, но важнее всё-таки реакция местных. Там друг друга поддерживают, у них нет внутренней конкуренции между режиссёрами, у них есть общая задача продвижения собственного кино к зрителю.
И это образец для каждого региона?
Да, так что давайте объединяться. Почему у нас нет внутреннего кинопроката? Зритель сейчас, к большому сожалению или к счастью, избалован. Вот мы пришли с вами в кинотеатр, здесь кожаные сиденья, деревянные столики. Здесь он хочет смотреть некое шоу, смотреть и наслаждаться. А в местном кино зритель должен ценить наполнение, а не качество картинки. Должно быть внутреннее национальное самосознание, да, возможно, это не шедевр, но его сделали земляки, которых надо поддержать, потому что это шаг к чему-то большему. И если получится собрать в прокате деньги, значит, есть шанс, что у них будет больше денег в следующем году, и они сделают новую историю, которая будет гораздо сильнее. Иначе не работает.

Интерес к фильму должен проявляться либо рублём, как любит наше министерство, либо тем самым зрительским интересом. В региональные фильмы никто не вложится, а без рекламы кино у нас не берут в кинотеатры прокатчики – коммерческая компания не может себе позволить работать в убыток. Муниципального кинопроката у нас сейчас нет. Есть тот же «Последний богатырь» – им можно забить весь зал и заработать неплохо, и никакие «Часы для Веры» туда просто не влезут уже, им не дадут возможности. Поэтому возвращение к государственному кинопрокату для нас, если мы хотим возрождать национальную кинематографию, неизбежно, иначе просто не пробиться. Ушёл американский прокат – на его место встал наш, который ничем не отличается от зарубежного.
Мы в кинотеатре, здесь везде афиши премьер. И тенденция видна невооружённым глазом: снимают байопики про музыкальные группы – «Комбинация», «Руки вверх», история Ромы Зверя. Снова повторяем традиции Запада, снимающих фильмы об Элвисе Пресли и других звёздах?
У нас сегодня не кризис идей, у нас кризис продюсерского восприятия идей. Потому что взять историю «Руки вверх», «Блестящих» гораздо проще. Вставить туда побольше знакомой музыки, раскрыть внутренние секретные противоречия персонажей, зритель чувствует себя частью истории, он был свидетелем всего этого – и готово! То же самое со сказками – снять сказку «По щучьему велению» или «Конёк-Горбунок» значит стопроцентно привлечь внимание зрителя. Мы же хотим, чтобы было супер популярно, чтобы можно было с попкорном прийти посмотреть, поэтому превращается сказка в семейное кино, когда взрослый смеётся, и ребёнок радуется весёлой картинке или попкорну – мы же приучаем его к этому. Вопрос: с чём ребёнок выходит из зала – с понятиями о справедливости или с мыслью, что попкорн и газировка вкусные? Никогда не поверю, что детское искусство не должно ничему учить. Потому что если у нас искусство не учит, если в школе запрещено воспитывать, если родители уже из тех времён, когда этому не учили, тогда какое общество мы ждём? Кто его воспитает? С понятиями о добре и зле, справедливости, дружбе, уважении к старшим ребёнок должен сталкиваться постоянно, в мультфильмах, кино, даже в раскрасках. Только тогда он растёт личностью. Выдано указание Владимира Владимировича о стопроцентном финансировании детского кино – и полное отсутствие детского кино на экранах. Но при этом рапорты о том, что мы миллиарды собираем. Ну да, доход идёт, но так же он шёл и на «Дом-2» – между прочим, самая рейтинговая передача в России с огромными рекламными бюджетами. Но это же не значит, что «Дом-2» – это искусство и им нужно гордиться?
А чем мы можем гордиться сегодня?
Я думаю, что поводов для гордости у нас крупицы. Например, тот же якутский фильм «Не хороните меня без Ивана», «Огненный лис» Шпиленков. Кстати, прошлый год был объявлен Годом семьи, и это единственный фильм, посвящённый семье, который вышел в 2024-м. Собрал 100 с лишним миллионов рублей, действительно хорошее, национальное кино, которое говорит о семейных ценностях через семью лиса. Булат Юсупов, к примеру, замечательный режиссёр из Уфы, популяризирует произведения башкирских писателей, гордость именно Башкирии, создал там киношколу, в которой люди учатся снимать кино. В Новосибирске Денис Казанцев сделал фильм «Суворовец 1944». Да, это не блокбастер, но это уже уровень гораздо выше, чем мог он быть в Новосибирске без какой-либо серьёзной государственной поддержки. Вот ими мы можем гордиться: несмотря на полное отсутствие глобальной поддержки в кинопроизводстве, эти люди не опускают руки и что-то делают. А все наши студии, менеджеры и так далее идут по линии наименьшего сопротивления так, чтобы не прогадать, чтобы не уйти в минус, и им, откровенно говоря, совершенно наплевать, национальная это кинематография или нет.
Юрий Борисов стал триумфатором последнего «Оскара», хоть и не взял статуэтку. А фильм о русских стал лучшим по версии киноакадемии. Это прорыв или провал? С одной стороны, признание, а с другой, в «Аноре» снова – проститутки, мат, избалованные дети русских олигархов…
Это провал. Русский как был бандитом в кино, так и остался – мафия, быдло. То, что признана его актёрская игра – для меня это не является предметом для гордости. В прошлом году «Оскар» получил фильм об Украине, созданный украинцами – «20 дней в Мариуполе». И после этого радоваться «Оскару», который вручён за русскую тему – это пОшло. Если Киноакадемия поддерживает такое кино, значит, и в «Аноре» что-то не так. Это же не те академики, которые в своё время вручали Оскара «Москва слезам не верит» или самый первый – «Битве под Москвой». Это другая формация академиков, другой политический контекст. Сегодня радоваться тому, что ты номинант на Оскар или фильм, в котором ты снялся, номинант или призёр Оскара – это не соответствует национальному сознанию.
Что вы знаете об омском кино?
Я мало знаю об омском кино. Знаю, что здесь несколько кинофестивалей проходило, «Золотой витязь» в прошлом году приезжал с Николаем Бурляевым. «Свидание с Россией» приезжал в этом году. Но так, чтобы омские фильмы выходили куда-то за пределы – такого нет, и это неправильно. Каждый раз нужна информационная кампания о том, что начинает сниматься фильм, вот он производится, вот он сейчас выйдет. Важно подтягивать к освещению федеральные СМИ – да хоть на уровне губернатора, звонить в ТАСС, писать официальные письма с просьбой об информподдержке. Пример: как создавалась кинокомиссия в Калининградской области. Губернатор сказал: нам нужна кинокомиссия, которая будет заниматься помощью в проведении съёмок на территории Калининграда. Он пригласил продюсера Ольгу Акопову к себе и сказал: всё в твоих руках. Если надо снимать на главной площади, ты звонишь мне, и мы это решаем. Собрал всех представителей органов власти и сообщил: съёмки в Калининграде – это приоритет.
Кинокомиссия собирает сейчас миллиарды, с точки зрения привлечения туристического ресурса и узнавания региона эта история работает. Ленин говорил о том, что важнейшим из искусств для нас является кино без всякого цирка. Нужны энтузиасты, которые будут пахать эту целину, вдруг их увидит власть и скажет: а давайте-ка мы вас поддержим? Вот тогда начнётся большее развитие. Кино может 100% являться двигателем для развития туризма в регионе. И надо находить эти нюансы – у вас тут горячие источники, расскажите об этом так, чтобы получилась история. Про Териберку никто не знал до тех пор, пока там не был снят «Левиафан» Звягинцевым. Понятное дело, что сейчас там такой поток, что Териберки уже нет практически, всё истоптали, но просто регион не был готов к туризму. Откуда все знают о Камчатке? По фотографиям да по фильмам. Медведи, красота, вулканы – это же ведь взято из творческого портфеля, а не из какого-то рекламного фильма. Кино недооценено очень многими, и в том числе бизнесом и государством.

Есть какие-то планы на Омск, может быть, в дальнейших каких-то киномероприятиях? Фестивали? Омск - молодёжная столица 2025 и культурная столица в следующем году.
Надо проводить кинолаборатории, и всё идёт от заинтересованности населения. Нужно изучать культуру киносмотрения, знаю, что организуются киноклубы, например, педуниверситетом. Зрителя надо постепенно приучать к этому, в том числе и на основе национальной идеи. Надо понять, почему человек не ходит в кинотеатр – не нравится репертуар, а может, им некогда, а может, им интереснее в интернете посмотреть. Нужно изучить аудиторию и оттуда начинать работать.
Вы недавно сняли документальный фильм. Расскажите о нём.
Фильм называется «”Ошибка” полковника Эдвинсона» и рассказывает о том, как американские союзники в 1944 году под освобождённым городом Ниш разбомбили нашу колонну, которая направлялась в сторону Белграда. Вот они это назвали ошибкой, хотя все историки и все свидетельства говорят о том, что ошибкой это быть не могло. Потому что невозможно не разглядеть звезду на самолётах, которые рядом с тобой летают и показывают, что это союзники. Эти события были не освещены практически в прессе. Историки города Ниш, специалисты русско-сербского гуманитарного центра эту историю раскопали и сохраняли, для них было важно сохранять именно то место, где произошла эта трагедия, там даже памятник в своё время стоял, потом был разрушен. История уникальная, она у меня в голове появилась ещё 12 лет назад, когда я первый раз приехал в город Ниш, но не было возможности это делать с точки зрения и геополитической, и финансовой. А в прошлом году нас «Фонд истории отечества» поддержал, и мы его сделали буквально месяцев за 9. 7 ноября провели премьеру в ТАСС, параллельно премьера прошла в городе Ниш – там, конечно, полный зал собрался людей, которые помнят, знают эту историю. После уже канал «Культура» показал этот фильм на большую аудиторию. Сказать, что мы остались непоказанными, нельзя. Но все равно стараемся показывать его дальше. Всегда хочется верить в то, что, когда ты показал кино, у студентов в голове остаётся, хотя бы у 15%, чтобы они это взяли с собой и потом кому-то расскажут. На этот процент мы и должны сейчас ориентироваться. Всегда интеллигенция, люди, которые копают вглубь, это 10% от общего числа жителей страны, остальные используют то, что придумали другие.
Нужно ли нам импортозамещение в кино?
Я считаю, что вводить запрет на европейскую культуру бесполезно, потому что любой запретный плод сладок. Но мы должны сначала разобраться в себе. Давайте сначала наладим наше национальное кинопроизводство, разберёмся в наших ценностях, не навязанных, а чтобы сами жители страны понимали, что для нас хорошо, что плохо. И после этого мы можем спокойно запускать в прокат и европейское, и американское кино. И на большую из них часть, я думаю, что зритель даже ходить не будет, потому что ему просто будет неинтересно. Он будет понимать ценность своего и ценность западного.
Ведь почему появилось это придыхание перед Западом? Да потому что железный занавес был. Нужно показать в сравнении, но для этого надо вкладываться в свою кинематографию, в импортозамещение во всех отношениях, в том числе с техникой. Сейчас многие столкнулись с тем, что монтажные программы западные, находят пути обхода через Казахстан, покупают лицензии. Но нам нужно своё! С объективами то же самое. В Советском Союзе были лучшие объективы для кинокамер, до сих пор старые объективы ценятся на рынке так, что с руками оторвут. Тогда умели делать оптику, был институт по созданию кинотехники, который уничтожен. Надо снова это начинать воспитывать, искать, начинать делать. И когда научишься делать это сам, тогда и на экспорт можно это продавать.
Пока то, что мы снимаем, даже в России не очень котируется, не то, чтобы об экспорте говорить. Но нам не надо вообще даже ориентироваться на западный рынок. У нас свой рынок, и он не полностью освоен. 22 миллиона проданных билетов на «Чебурашку». Это не 22 миллиона человек, некоторые по два и три раза ходили. Допустим, 20 миллионов, это самое большое количество людей, которое посещает кинотеатры. В России 147 миллионов жителей, откинем пенсионеров, детей. Остальные где? Значит, их что-то не устраивает. Значит, им не хочется ходить в кино. Почему мы ориентируемся только вот на этих 20 миллионов? Так давайте проводить исследования, понимать, что они хотят видеть. Почему у нас отсутствует культура смотрения, что проще посмотреть в телефоне, на маленьком экране, где тебе абсолютно плевать, как снимали, какие объективы, цветокоррекция. Такие фильмы как бульварный роман – посмотрел и побежал дальше. А люди на это 3 года жизни потратили.
Эти и другие статьи можно почитать в электронной версии журнала «Трамплин. Возможности».
Беседовала Ирина Баландина
Фото: Александр Петров