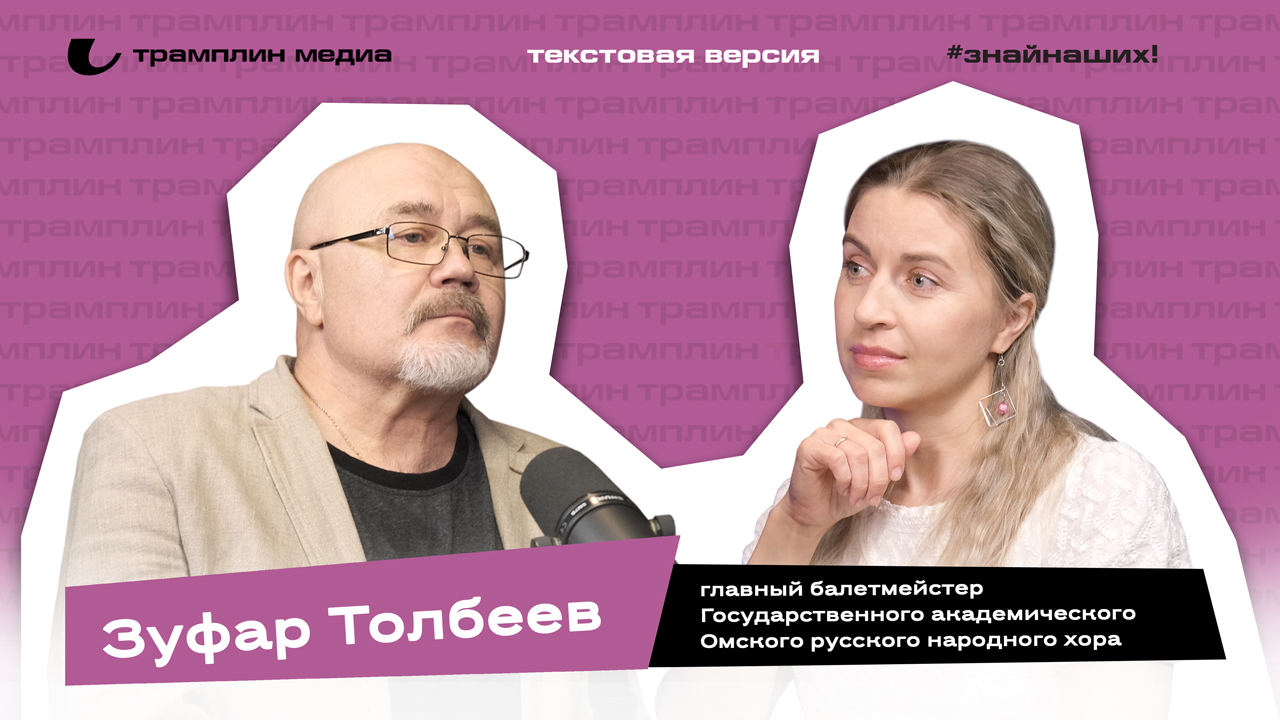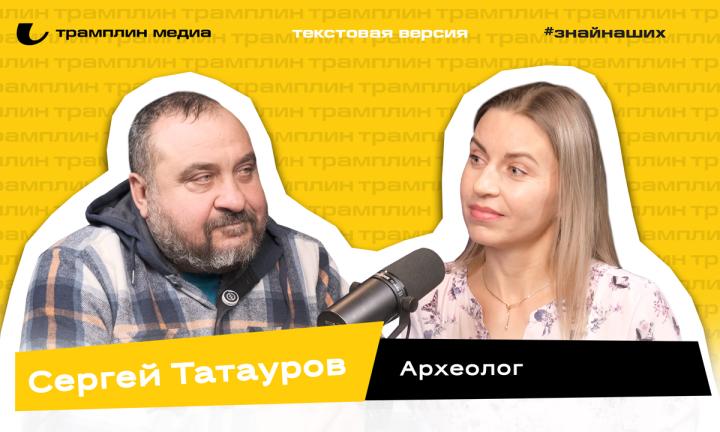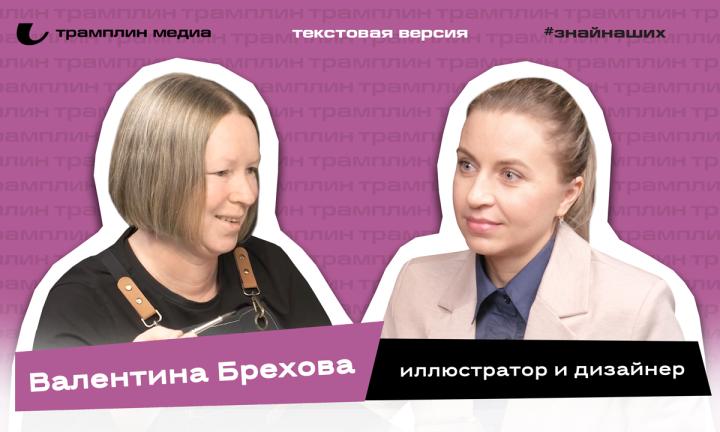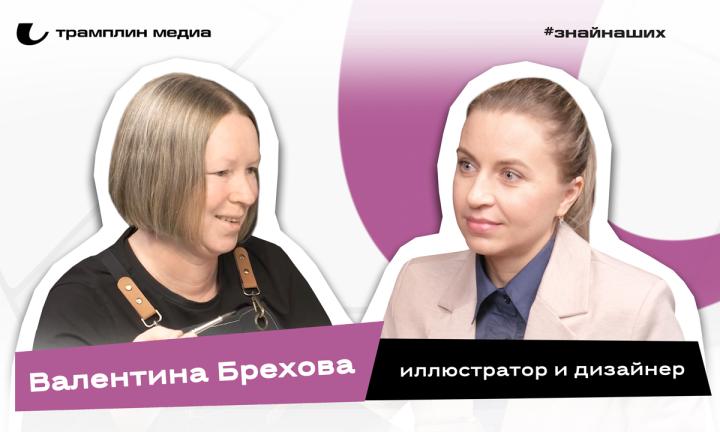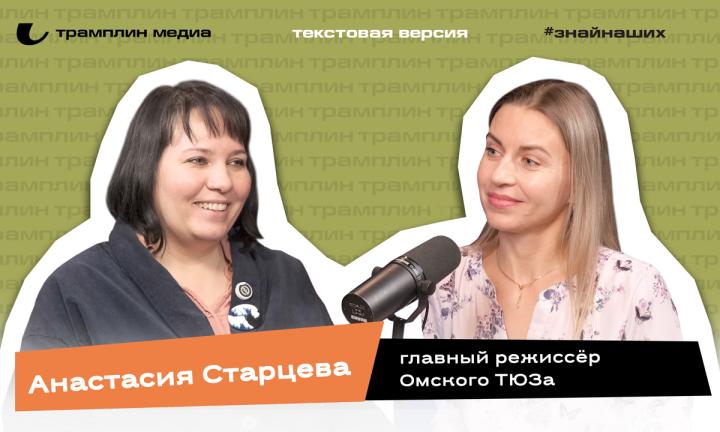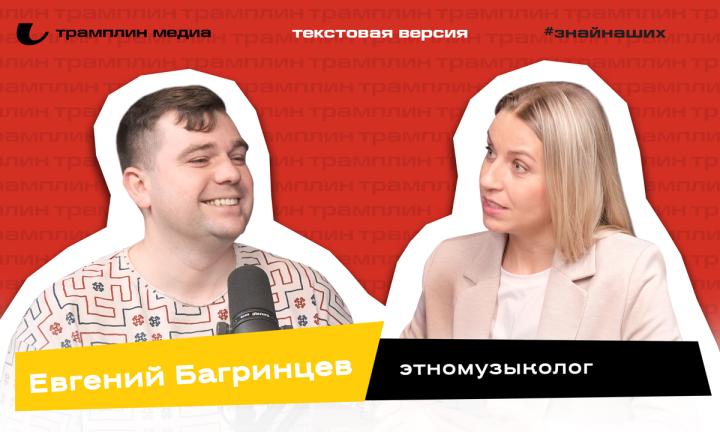Дата публикации: 2.08.2025
Для тех, кто любит читать, текстовая версия подкаста «Знай наших!» с главным балетмейстером Государственного академического Омского русского народного хора, заслуженным артистом России, заслуженным деятелем искусств России, кавалером ордена Дружбы Зуфаром Толбеевым.
— Зуфар Ягфарович, здравствуйте!
Зуфар Толбеев:
— Здравствуйте!
— Очень рада видеть вас в нашей студии. В этом году один из ведущих профессиональных народных коллективов России — Омский русский народный хор — отмечает юбилей — 75 лет. Я с этой датой вас поздравляю! Последние 12 лет именно вы отвечаете за хореографическую часть, делаете это, я скажу, бесподобно, и со мной согласятся наши подписчики. Премьерная постановка «Крепость Сибири» посвящена юбилейной дате. Как она зарождалась именно в части хореографической, хочется подробнее об этом с вами поговорить, и когда её смогут увидеть омичи?
— Этот проект принадлежит прежде всего начальнику хора Елене Владимировне Ермаковой. Это у нас такая маленькая гидроэлектростанция, которая всех нас заводит. У нас очень хорошая команда. Это главный хормейстер Галина Георгиевна Поддубная, это Юрий Кононов — музыкальный руководитель, один из лучших баянистов, если, наверно, не лучший вообще в России, и руководитель оркестра, талантливый человек. И вот мы все вместе, плюс у нас ещё Сергей Панин, который является автором сценария. У нас такая мозговая атака! Идея такая — рассказать об Омской области через народные промыслы — как люди здесь жили, что ими двигало, вообще как они выживали. А решение по терминологии, по характеру — это будет неофолк, то есть фольклорными средствами, через призму современности. Но самое главное — чтобы это зацепило зрителей, чтобы им было интересно, чтобы это не было просто так, трафаретно, будем говорить. Любой танец прежде всего отталкивается от музыки. Музыка — это основа всего. Понимаете, если музыка хорошая, зажигательная или музыка глубокая, философская, под неё можно ставить даже не настолько талантливую, гениальную хореографию — и она будет понятна. Если ты поставишь гениальную хореографию на неинтересную музыку, это будет провал. Поэтому всегда музыка, конечно, это основа всего.
— Долго пришлось искать какое-то решение?
— Мы ищем.
— До сих пор?
— Основа, конечно, фольклорный музыкальный материал. У нас, слава богу, есть Галина Георгиевна — специалист, наверное, один из лучших в стране, которая ищет всегда прежде всего региональный, сибирский материал. По крайней мере последние лет пять работаем таким вот образом — мы так делали проект «Ермак», отталкивались от музыкального материала именно фольклорного регионального, сибирского.
— Что предопределяет успех танцевальной группы?
— Успех у зрителя — это прежде всего. (Оба смеются.)
— А почему успешен Омский русский народный хор?
— Для меня самое главное слово — «цепляет»: если зацепило зрителей и не отпускает. Есть такое понятие — краешек стула. Вот зритель сел на краешек стула, ему неудобно, а его настолько всё это заинтересовало, что он про это неудобство забыл…
— И не чувствует это неудобство?
— Он смотрит до конца! Вот это важно. У нас, я считаю, очень хорошие танцоры, харизматичные, у нас мужчины вообще брутальные, такие сибиряки! Они выходят и показывают мужскую мощь.
— Настоящий образ!
— Да, это образ. Ну, будем говорить, во многих коллективах есть такое нечто непонятное — унисекс, что-то такое: всё вроде бы ровненько, всё чистенько, но это… неинтересно.
Вот это один из элементов успеха. Ну, плюс ещё, конечно, трюковая составляющая. Это сложная танцевальная техника. Трюки — я всегда говорю — соль и перец русского народного танца. Без них танец был бы пресен. Актёрская игра — ребята купаются — именно актёрски очень органичные. Наверное, вот эти моменты плюс, вероятно, ещё оригинальные постановки, потому что я стараюсь, чтобы всё-таки присутствовал элемент новаторства в танце.
— А в чём это новаторство?
— Новаторство — это то, что до тебя мало кто делал или вообще не делал. Это даже может касаться всего — лексики, то есть движений, либо рисунка, либо вообще каких-то изюминок. Я называю это «изюм»: вот это что-то необычное, что должно зацепить зрителя.
— Это где-то заимствовать нужно или идея кроется где-то там (показывает на голову), надо её просто реализовать?
— Вообще насмотренность — это очень важный элемент. Ты должен знать, по крайней мере я пытаюсь, всё, что происходит у нас в стране, в России, в профессиональных коллективах, конечно, прежде всего, потом в самодеятельных коллективах, в студенческой среде, — обязательно всё это смотришь. Там есть очень, очень талантливые постановщики. Причём больше всего (может, в силу того, что не так боятся рисковать) это, наверное, происходит в самодеятельной среде. Иногда смотришь и просто поражаешься — делают вещи настолько необычные, настолько какие-то даже безумные. Но самое главное, что они цепляют. Очень важно, несмотря на то что у нас народное искусство, оно должно быть в духе со временем, должно идти в ногу со временем. Если ты не идёшь в ногу со временем, ты превращаешься в музей. Хореографический музей. Многие у нас, к сожалению, профессиональные коллективы, даже топовые, превратились в этот музей. То есть они (делают) то, что было сделано сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят лет назад, — всё, дальше не развиваются. Как бы и на этом всё сидят...
— Вот он, успех, вот он, успех!
— Да, наверное, и в этом тоже. Понимаете, самая важная задача стоит, я для себя её определяю так — и это самое главное — перед народным искусством, конкретно перед народной хореографией — это привлечь молодёжь. Чтобы наше искусство, как в моё время, было модным, было престижным. Было модно ходить на концерты. Была такая мощная государственная идеология — на телевидении фактически по субботам, воскресеньям государственные коллективы показывали, и интерес поддерживали, и в то же время планка была высокая.
— Получается, молодёжь как лакмусовая бумажка, по которой можно судить — если интересно, востребовано, то это действительно стоящее.
— У меня сын, ему 25 лет, такой поздний ребёнок. Вот для меня это лакмусовая бумажка. Вот всегда, когда он приходит в коллектив, потом говорит: пап, мне это вообще неинтересно, это для дедушек и бабушек. А вот когда он приходил уже на «Ермака» с Омским хором, он вообще там!.. (глазами демонстрирует эмоции). У нас с ним очень много было разговоров, очень много таких бесед, и я вижу, что его это задело, ему было интересно, он сразу начинал там свои корни искать, думать...
— Вы ему что-то объясняли, что-то рассказывали? Какую-то историю, может быть? Вы же его заводили в зал посмотреть и как-то подготавливали к просмотру?
— Нет, здесь такого, наверное, нету, честно говоря. Здесь же ты как пришёл, допустим, на хороший фильм — и задело тебя или не задело. Здесь то же самое.
— Его задело?
— Задело. Ну это вообще… понимаете, у нас всё равно искусство ассоциативное. Я считаю, что это на генном уровне в каждом из нас сидит. Может быть, сейчас ты можешь слушать, ну, я не знаю, там…
— ...какой-нибудь рок.
— ...хип-хоп, зарубежную музыку… Наступает момент — всё, ты приходишь к своим корням. Ты всё равно за столом будешь петь «Ой, мороз, мороз!» и танцевать будешь «Барыню». И откуда у тебя это идёт? А это заложено многими-многими поколениями. Это, наверное, судьба. Омский хор — это судьба (улыбается). Потому что вот у нас дома все эти гулянки заканчивались тем, что доставали пластинку, где была «Омская полечка».
— Это в вашем детстве?
— Это моё детство — оно прошло под «Омскую полечку».
— Ну слушайте, да-а-а! Знак какой-то!
— Потом я очень мечтал, когда в ансамбле СибВО был, попасть в Омский хор. Я сюда приехал, я «проверился» перед Яковом Абрамовичем (Коломейским. — Прим. ред.), Георгием Николаевичем Пантюковым — и меня брали, но там так сложилось, что я потом в общем-то выбрал Красноярский ансамбль танца Сибири.
— То есть вы уже тогда могли бы быть?..
— Да, я мог бы быть танцором, естественно, но как-то так вот сложилось... И Омский хор всегда для меня не был пустым звуком. Когда я служил в армии, половина танцоров была из Омска. Здесь очень всегда была сильная самодеятельность. Потом я служил с Геной Яничкиным, это просто легендарный трюкач. Я вот лучше не видел и, наверное, не увижу. Мне повезло, я с ним проходил службу. Омский хор — это была такая вершина! Вообще, Омский хор, если говорить о 60-70-х годах, это был самый лучший государственный хор. Лучший! Лучше Пятницкого, лучше Кубанского, Северного. Тогда было такое сито для всех коллективов — это выезд за рубеж. Омский хор — это первый коллектив среди народных коллективов, который побывал в Австралии, в Новой Зеландии, в Англии, в Израиле, в Америке он уже катался. А это были коммерческие поездки. По три с половиной месяца. Так что Омский хор — это такая легенда! Ну, после смерти Пантюкова здесь, конечно, немножко его подёргало, была очень большая смена руководителей... В конечном итоге вот сейчас, я считаю, ну, последние пять-шесть лет, мы этой командой работаем, и просто всё замечательно! Я всегда говорю, здорово, что мы все работаем на идею и никто не тянет одеяло на себя. Поверьте, это важно! Ну просто все друг друга уважают и понимают. Конечно, бывает, и спорим, и всё что угодно...
— Нормальный рабочий процесс.
— Совершенно нормальный процесс. Работаем на Омский хор! Для нас самое главное — это Омский хор. Уникальный коллектив, поэтому такое счастье в нём работать!
— Вы до 1996 года сами танцевали.
— Да, я танцевал. Я вообще-то артист балета на пенсии. (Оба смеются.)
У нас же 20 лет, и потом ты уходишь на пенсию.
— Да, потом на пенсию. А вот сейчас постановщик. А кого в вас больше, кто вы на самом деле — танцор или постановщик?
— Вообще внутри-то я, конечно, танцор. Ну а постановщик — это же человек, который сочиняет танцы. Ну вот у меня пример такой есть — как художник, который рисует картины, только вместо красок у него люди. А то, что ты там себе вообразил, что ты хочешь показать, без чего ты не можешь, что как заноза в тебе сидит — и ты хочешь всё это выразить.
— Здесь, наверное, больше выбора, больше свободы?
— Ну, по-разному бывает. Иногда бывает, как сейчас, вот мы говорили о «Крепости Сибири» — там техническое задание, которое нужно выполнять, нужно ставить номера: «Гончары», «Плотники»… По-разному бывает. Иногда приходит что-то во сне, ты хочешь это осуществить и не можешь успокоиться, пока не осуществишь. Бывает так — что-то тебя подвигнет, что-то заденет: ты увидел — и думаешь, тоже хочу что-то такое. Иногда отталкиваешься от артистов. Артисты — люди интересные. Допустим, что-то своё внесут — и ты уже: ах! Классно! Этот образ, который он несёт, хочу как-то расширить, хочу сделать номер. Такое тоже бывает. Очень по-разному.
— Вообще постановщик, наверное, постоянно находится в таком вот мыслительном процессе: где-то заметить, придумать?
— Да, это должно быть 24/7. Здесь очень важно не останавливаться, потому что, понимаете, я вот вижу, даже есть руководители и постановщики молодые ребята — но они что-то своё нашли, несколько номеров сделали, и всё…
— Достигли своего потолка?
— Не то что потолка, понимаете, как бы варятся в одном и том же: немножко зашоренность определённая. Здесь очень важно постоянно быть в движении, постоянно смотреть новое, нужно иметь нюх: всё время смотреть на то, что происходит. Ну вот как в нашей жизни — тут искусственный интеллект, там ещё что-то появилось, то, это… Если ты не в курсе, ты оказываешься на обочине, будешь всё ходить с кнопочным телефоном в лучшем случае, а то и вообще с записной книжкой. И всё. Жизнь — она такая…
— Вы себя можете назвать продвинутым постановщиком, балетмейстером?
— Продвинутым? Я всё-таки себя считаю неплохим профессионалом. Человеком, который, в принципе, владеет своей профессией. Дальше — это уже не мне судить, на каком уровне.
— Мне кажется, награда, которой вы были удостоены в 2023 году, — «Душа танца» — о многом говорит. А что она значит для вас?
— Вообще, «Душа танца» — это приз журнала «Балет». Это признание заслуг прежде всего танцевальным сообществом. То есть коллегами, которые этим занимаются. Вот для народников, людей, которые занимаются народно-сценической хореографией, этот приз — как «Оскар» для кинематографистов. Это на самом деле! Я горд, что я первый среди балетмейстеров государственных хоров получил это звание. Там, конечно, такие выдающиеся имена, которые получали (это звание)— и Моисеев, и Григорович…
— ...Цискаридзе.
— ...Васильев и Цискаридзе. Попасть в эту когорту — это греет профессиональное, человеческое тщеславие (улыбается).
— А что для балетмейстера важнее — профессиональное признание или признание зрителя?
— Вообще, важно, конечно, и то и другое, если уж говорить по-настоящему. Я всё-таки себя больше акцентирую как балетмейстера для публики. Но признание коллег — этот очень дорогого стоит.
— Это мощная поддержка.
— Да, мощная. Понимаете, ты, конечно, можешь быть балетмейстером для публики, но если будешь делать обычные вещи, будем говорить, проверенные, трафаретные, на которые гарантирован определённый успех, специалисты будут прекрасно понимать, откуда ноги растут, и всегда будут относиться так, что… копирайт, грубо говоря.
— Посредственно.
— Да.
— Вы родились в металлургическом городе. Родители ваши — обычные рабочие. Как так получилось, что вас отдали в самодеятельность? Мама, по-моему?
— Я родился в городе Магнитогорске. Металлургический город. А вообще, я заметил, что во всех металлургических городах две страсти — это хоккей и народные танцы. Я после этого работал в других городах — в Череповце, в Челябинске, в Красноярске. Там вот именно две страсти — хоккей и народные танцы.
— Это уже примета такая?
— Да, в моё время это было очень престижно — заниматься. Не считали, что это такое девчачье дело. Мальчики, мужчины занимались народными танцами, было мощное самодеятельное движение. Мне, конечно, повезло в каком-то плане, что я был такой мамсик, и меня мама сразу в школьную самодеятельность отдала, потом был Дворец пионеров, Дворец культуры. Уже когда учился в школе, я настолько увлёкся народными танцами, что для себя решил, что хочу стать профессиональным артистом. Я службу проходил в ансамбле Сибирского военного округа в Новосибирске, после этого попал в Красноярский ансамбль к Михаилу Семёновичу Годенко. Там всё-таки у меня 13 лет — очень такая большая часть профессиональной жизни. Ну, мне просто повезло там, потому что это были зарубежные поездки.
— Была активная гастрольная жизнь.
— Да, очень активная. Это вообще было такое… это праздник, понимаете, который, казалось, никогда не закончится. Но наступил момент, я почувствовал, что дальше уже всё… Ты достиг потолка, можно только голову разбить. И мне стало интересно пробовать себя в качестве постановщика. Сначала в хореографическом училище, в детской самодеятельности. Ну как-то я плавно вообще (в это) перешёл.
— А переход в омский коллектив тоже был плавным?
— Он был немножко необычным. Меня пригласили сюда на аттестацию балетной группы в 2013 году, и тогдашний директор филармонии Василий Иванович Евстратенко предложил мне стать главным балетмейстером. Ну, я ему сразу сказал нет, я только что устроился на работу в Вологодскую филармонию как режиссёр филармонии (по образованию я режиссёр эстрады), и просто уходить мне было неправильно, будем говорить. И потом, как-то сразу сюда, в Сибирь, ехать — у меня семья, у меня ребёнок, жена, она врач. Это всё нужно было бросать. То есть я сразу сказал нет. Он говорит: нет, не спешите. Вообще он выждал полгода. Он выжидал, он приглашал меня на постановки, ну и в конце концов создал такие условия, от которых уже нельзя было отказаться. И потом, когда уже согласился, я, конечно, ставил свои условия: я хочу, чтобы танцевальная группа Омского хора стала лучшей в России, по крайней мере среди государственных хоров, а может быть, даже и среди ансамблей танца, что здесь я буду жёстко — будет, как это говорят у нас, система Карабаса-Барабаса. Я сам выползал из зала, и ребята выползали из зала, по два вызова у нас было... Всё там было — и письма были: «уберите от нас этого дрессировщика» и так далее. В общем-то всё это тоже приходилось проходить. Но то, о чём мы говорили: успех есть — артисты всё прощают. Если неуспех — то вспомнят всё.
— Цель, которую вы ставили вначале, достигнута?
— Да, даже те проекты, которые тогда просили написать на ближайшие пять лет, фактически все осуществились: «Зимние сибирские забавы», «Ожившие скульптуры Омска», «Здорово ночевали, казаки!» — казачья программа, и вот даже «Ермак» — всё, о чём мечталось, это в общем-то осуществилось. Плюс концертные программы.
— Сложно было в те годы, как вообще семья отнеслась к переезду?
— Жена, конечно, отрицательно. Я, разумеется, приезжал домой, в Вологодскую область, ну, раз в два-три месяца, то есть постоянно туда-сюда. Сейчас мне уже проще, потому что Люба, моя жена, на пенсии, она приезжает, она уже здесь, со мной, рядом.
— То есть всё это время приходилось вот так видеться?
— Да, больше десяти лет приходилось вот так мотаться. Ну, понимаете, всё это ради чего?! И она это тоже всё прекрасно понимала, что это моё дело, это страсть, я без этого не могу. Вот поэтому никуда от этого не деться.
— В Вологодской области оставалась не только семья, но и знаменитый проект, который был создан с Юрием Шевчуком. Он назывался «Я получил эту роль». Рок-балет. Как вы его создали?
— Вы знаете, я никогда не интересовался роком. Вообще никогда. Так получилось — вот такой народник, и всё. А тут такой момент — просто попались мне все эти пластинки, которые были записаны на MP3, и я как-то в новогодние праздники просто их послушал. Когда я их прослушал: тексты, музыка! — это всё про меня, ну просто про меня! Потому что Юра с 1957 года, я с 1958-го. Это, в принципе, наше поколение, советское время со своими определёнными правилами, потом эта перестройка, ну и так далее… Это был вообще слом сознания. Вот всё это хотелось показать. Я ему позвонил, как человек порядочный хотел попросить авторское разрешение, а он очень творческий человек, заинтересовался, сказал, что так интересно, зовите меня. Я тогда несколько раз приезжал к нему домой, мы обсуждали. В общем-то идеология была его, выбирали какие-то определённые песни. Вообще, очень интересный был проект. Для меня он очень важный, потому что тогда происходил взрыв сознания, я понимал, что рок-культура — это определённая культура со своими правилами, но она настолько интересная, она животрепещущая! Я сделал этот балет, потом Юра нас с собой возил — на «Олимпийском» мы работали, там 20-тысячная толпа так ревела! Мы выходили, что-то ещё там танцевали.. Но там совсем другая хореография. Она заставила меня вообще пересмотреть отношение к танцу. Это умная хореография, которая заставляет думать. Она не такая, которую тебе вложили, разжевали и… А тут совсем другое, тут совсем по-другому.
— А к народному танцу вы после это стали по-другому относиться?
— Да, конечно, по-другому. У нас, кстати, и «Ермак» совсем другой.
— Что там произошло?
— Раньше как мы воспринимали народный танец? Это, вот я говорю, ух, ах. То есть это эх! — и все давай плясать. Грубо говоря, 150 — и пошла пляска, веселье, все хороши. Либо там лирика какая-то любовная. Ну вот и всё. А на самом-то деле там очень много всего. Там вся гамма чувств, это всё можно показать и через народную хореографию. Сейчас особенно многие хореографы стараются на стыке разных жанров всё это делать. Вообще нету такого разделения, с моей точки зрения: вот это чисто народное, вот это чистый брейк, вот это чистый хип-хоп, вот это эстрадный танец, джаз, модерн и так далее. Сейчас вообще всё как бы в кучу. Самое главное — ты должен свою мысль выразить, а как ты её выражаешь…
— Можно сказать, что этот проект стал тем «изюмом», который и в народный танец потом внесли?
— Ну, он не совсем народный танец. Там всё равно на основе песен Шевчука — «Последняя осень», «Родина».
— Ну, потом же в народном хоре…
— Вот для балетмейстера всё, что он делает, в копилочку идёт. Потом он из этой копилочки достаёт, старается использовать. Вот этот момент очень важный.
— Какие требования вы предъявляете к коллективу, его участникам? Что прежде всего должно быть?
— Для меня самое главное — это страсть. Страсть к работе, страсть вообще.
— Такой фанатизм?
— Да, фанатизм. Ну, прежде всего я к себе это: у меня тоже есть внутренний судья, который меня оценивает. Мне это очень важно.
— То есть вы требуете от других и соответствуете сами этим требованиям?
— Конечно! Так вот, очень важно, чтобы это были неравнодушные. У нас, понимаете, короткий век. За это время ты должен отдаваться, ведь каждый из артистов, его выбор личный… Честно говоря, очень тяжёлая профессия — травмоопасная, зависимая и так далее. И чтобы в этой профессии ты чего-то достиг, ты должен быть просто фанатом.
— В коллективе все фанаты или кого-то так — ай-ай-ай, надо довоспитывать? (Смеются оба.)
— Люди разные. Бывает так, что… Понимаете, это чистая психология. Молодые — фанаты, с возрастом начинается уже… ну, что там, болячки и так далее. Там уже немножко… Но там другое надо — зацепить, заинтересовать, на какой-то крючочек подсадить. Я стараюсь каждого артиста раскрыть. Ну как у нас в жизни — есть плюсы, есть минусы. Для меня минусы нужно спрятать, а плюсы все показать, чтобы у каждого артиста был сольный кусок или свой танец, где он солирует, либо какие-то моменты, где он должен всё самое лучшее, что у него есть, — актёрское мастерство, какие-то технические возможности, — чтобы он всё это показал.
— Как вы считаете, в «Крепости Сибири» удалось отразить… понятное дело, что и историю края, а ещё и историю самого Омского русского народного хора, те начинания, всё то развитие, которое продолжается все эти 75 лет? Вот здесь удалось всё это богатство показать?
— Удалось, не удалось — это сложно говорить, потому что это всегда (решает) зритель. Вот у нас премьера, и это всегда… Мы сейчас можем что угодно говорить, но зритель всё это…Но я хочу сказать, что главная задача для Омского хора — это прославлять Омскую область. Вот здесь у нас «Крепость Сибири» — в основу взята Тарская крепость. Вообще там есть такой мостик от проекта «Ермак»: Ермак проложил дорогу в Сибирь, а дальше после него как люди жили, осваивали... Вот это всё мы хотим показать на примере нашей области. Область интересная, переселенческая, региональные особенности — вот, наверное, главное для нас в этом проекте.
— С каким чувством вы ждёте 18 октября?
— 18 октября у нас (концерт) в Кремлёвском дворце съездов… Кстати, впервые Омский хор работает свой концерт за всю его историю в Кремлёвском дворце съездов. Работал в правительственных концертах, но это были отдельные номера. А своего личного концерта ни разу не было. Я даже с удивлением узнал об этом.
— А что для вас это значит?
— Понимаете, это 6000 зрителей. Ну, это будет определённый резонанс. После этого концерта будет создаваться мнение, что это за коллектив. Либо будут говорить, что всё это нафталин, либо будут говорить, что это да! Или вообще ничего не будут говорить, что тоже плохо. Мы на самом деле доказываем, постоянно доказываем, что мы всё-таки находимся в авангарде народно-сценического искусства. Это на самом деле так, это в общем-то признают и специалисты, и чиновники, и об этом говорят постоянные приглашения на «Добровидение», участие в абонементных концертах Зала Чайковского. Вот участие в абонементных концертах Зала Чайковского — это уже определённое признание и говорит о том, что коллектив топовый. Просто топовый, один из лучших коллективов. Здорово! То, что мы получили звание «академический», то, что мы являемся обладателями гранта президента в области культуры… Всего обладателей гранта по всей России среди всех учреждений культуры 100 коллективов. Это Большой, Мариинский театры, симфонический оркестр. У нас в Омске это Омская драма и Омский хор. Вообще очень мало среди народных коллективов — там моисеевский, «Берёзка», Пятницкий хор, Кубанский хор.
— Это гордость Омска, Омской области.
— Да! Вот получить грант — это о многом говорит. Мы на самом деле находимся в авангарде.
— Вы сейчас понимаете, что тогда, 12 лет назад, сделали этот смелый шаг не зря — (приняли) приглашение Евстратенко?
— Я рад, что всё сложилось, как-то хорошо, что этот опыт… Понимаете, любой балетмейстер, любой руководитель хочет после себя оставить след. Для меня это — пусть это звучит так тщеславно, но тем не менее я очень хочу, чтобы здесь после меня остался след. И, как всегда говорил Яков Абрамович Коломейский, первый главный балетмейстер, который создал стиль Омского хора: «Меня не станет, а мои танцы вы танцевать будете». Мне, честно говоря, тоже хочется это говорить: «Меня не станет, а вы будете танцевать мои танцы».
— Близка душа и близка эта фраза?
— Ну, я надеюсь.
— Держим за вас кулачки и желаем только удачи! Пусть всё пройдёт как по маслу!
— Надеюсь!
— Большое спасибо за встречу!
Полную версию видеоподкаста можно посмотреть здесь https://tramplin.media/news/18/7296