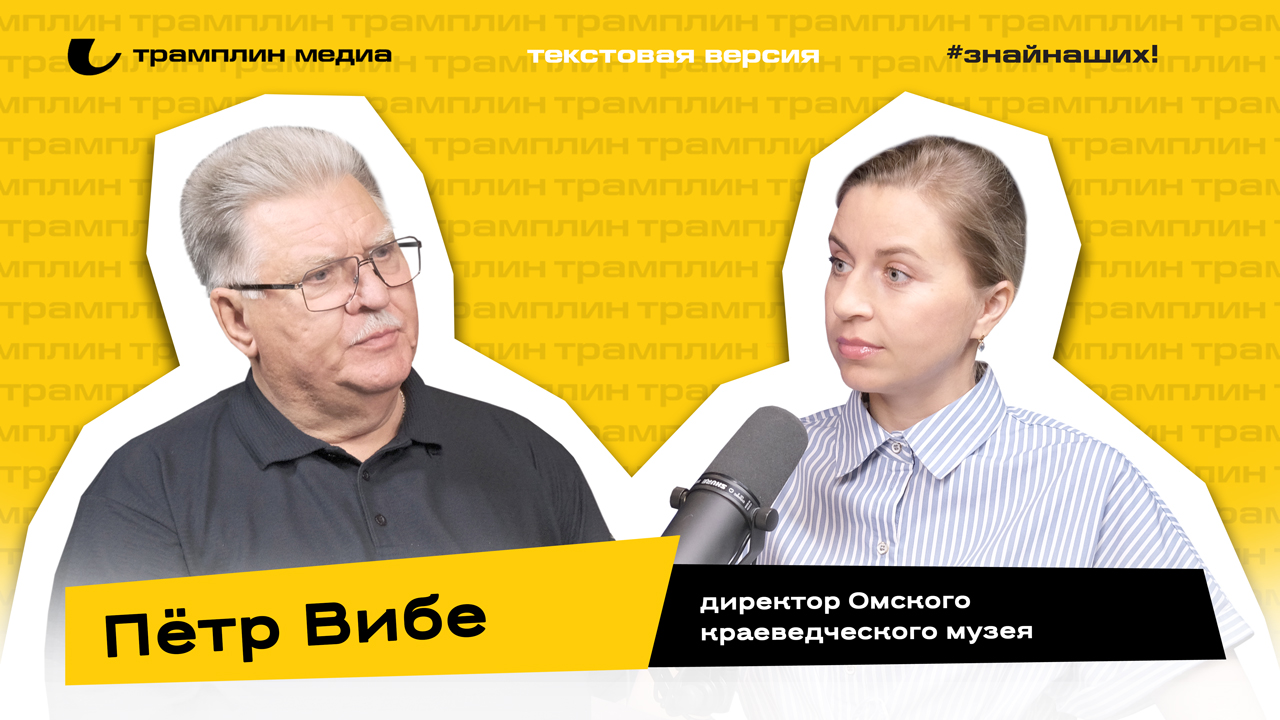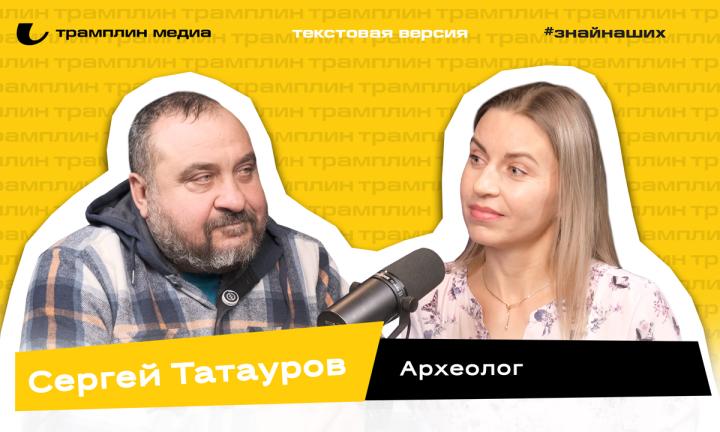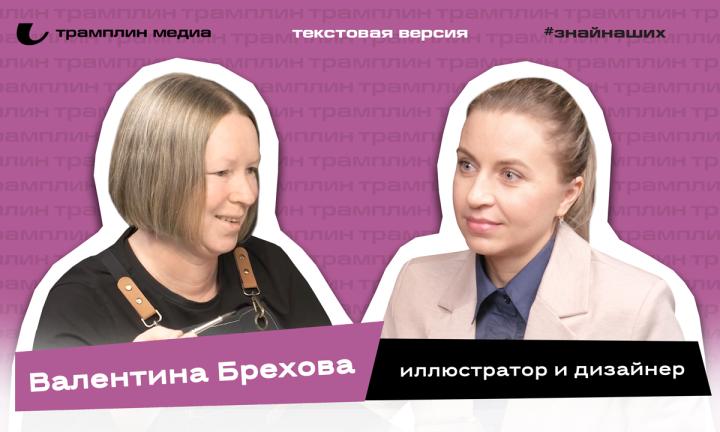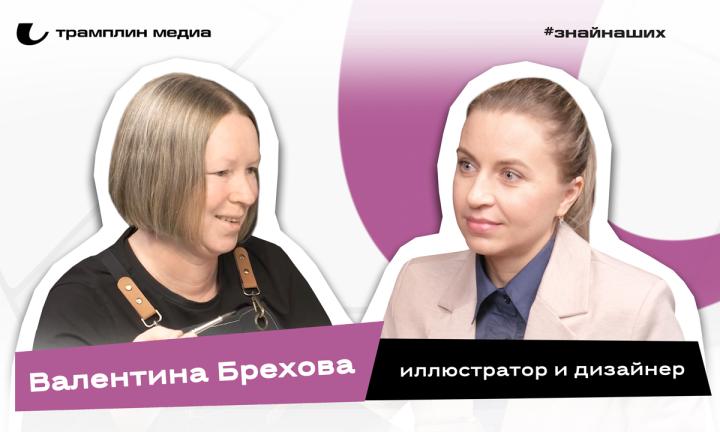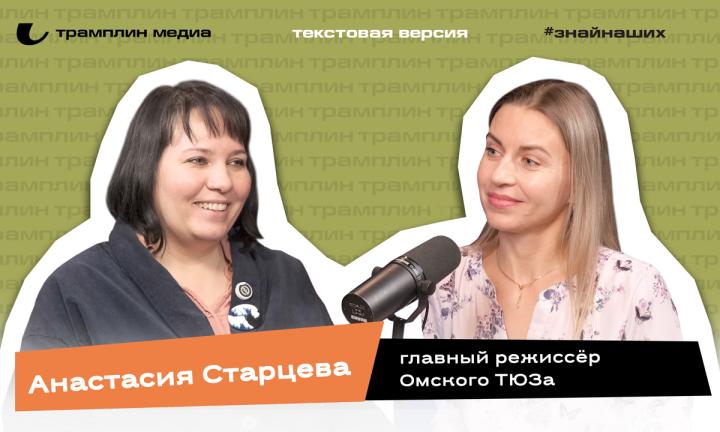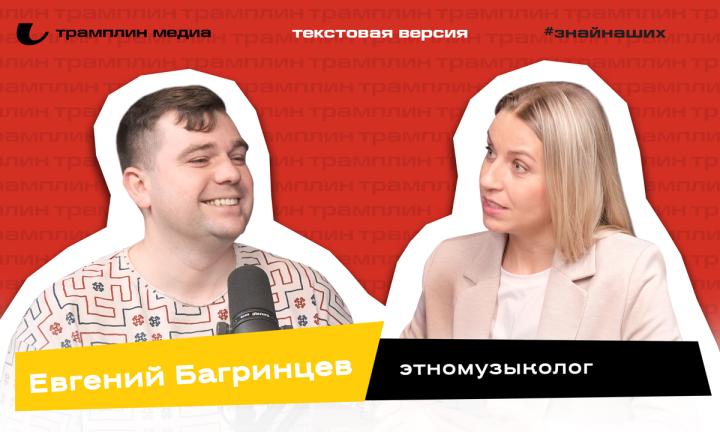Дата публикации: 26.07.2025
Для тех, кто любит читать, текстовая версия подкаста «Знай наших!» с директором Омского краеведческого музея, доктором исторических наук Петром Вибе.
— Пётр Петрович, здравствуйте!
— Здравствуйте!
— В Омске этим летом работает уникальная выставка-исследование знамени Ермака. Она открылась в середине мая, насколько я помню.
— 17 мая, в «Ночь музеев».
— Считается, что стяг — это вот такая главная реликвия присоединения Сибири к России. Какое-то время до революции н хранился в Никольском казачьем соборе, а потом исчез, и до сих пор это загадка. Нынешняя выставка в Омском краеведческом музее — это некая, наверное, попытка воссоздать культурный код. В чём, по-вашему, основная, главная ценность этого знамени?
— Вы уже произнесли слово «реликвия». Вот в этом и ценность этого предмета. И если бы он дошёл до нас, то это был бы предмет, который сопутствовал очень важным событиям в истории России, а именно походу Ермака в Сибирь. Но, к сожалению, этот предмет, как вы правильно сказали, в начале ХХ века исчез, и мы склонны предполагать, что он, этот памятник, уже утрачен. Поэтому сейчас речь идёт о том, чтобы попытаться его воссоздать. Не копию сделать, поскольку оригинала нет, а именно воссоздать на основе тех наших знаний, которые мы либо имели, либо в процессе наших исследований должны были вновь выявить. Вот именно этим мы и занимаемся, и этому посвящена выставка «Знамя Ермака: выставка-исследование» — она так называется.
Следующим этапом будет подготовка и издание альбома с аналогичным названием «Знамя Ермака: альбом-исследование», где мы читателям представим те исторические документы, которые мы нашли, различного рода иллюстрации. У нас, кстати сказать, имеется очень много аналогов, и знамя Ермака как таковое существовало не в единственном числе. Вот в Оружейной палате в Москве есть несколько знамён, которые называются знамёна Ермака. Это и понятно, по дошедшим до нас сведениям, каждой сотне казаков Ермак вручил по такому знамени, и они вот таким образом пошли в Сибирь. Наше знамя — одно из этих знамён. Оно, по всей видимости, долгое время бытовало, сохранялось, но вопрос в том, присутствовало ли это знамя в самой ключевой битве с ханом Кучумом. Вопрос очень и очень спорный, и мы склоняемся к тому, что нет, это знамя, то, которое хранилось у нас в Никольском казачьем соборе, было изготовлено чуть позднее, а может быть, и значительно позднее, в память об этом событии. И на это нас объективно наталкивает то обстоятельство, что на одной из сторон этого знамени находился образ Димитрия Солунского. А именно в Димитров день, в день памяти Димитрия Солунского, эта битва и произошла. Ну, сложно предположить, что, идя в Сибирь, Ермак знал, что эта битва произойдёт именно тогда, и заранее образ появился на знамени. То есть, скорее всего, этот образ там появился уже позже, когда люди знали о том, когда эта битва произошла, и вот в память о Димитрии Солунском на второй стороне знамени он и появился. Всё-таки ключевая, на мой взгляд, фигура и главная сторона этого знамени — это Михаил Архангел.
— Собственно, вот он, на обложке нашего журнала (показывает на издание), который вышел буквально недавно.
— Совершенно верно. И на иконе, которая у нас существует и тоже легенда её связывает с походом Ермака в Сибирь, тоже изображён Архангел Михаил. Поэтому вот мы и пытаемся сейчас всё это как-то свести воедино и прийти к каким-то и умозаключениям, которые строятся на логических наших рассуждениях, и один из таких примеров вам привёл. Ну и используем, насколько это возможно, всякого рода серьёзные современные методы. Вот, допустим, по изучению иконы химики работают. И предполагаем хронодендрологический анализ провести. Ну, не только искусствоведы смотрят.
— Мы об этом сейчас ещё поговорим, а вот хочется узнать: знамя Ермака, которое сейчас на выставке, оно откуда, как оно приехало в Омск? Из Новочеркасска, по-моему?
— Сейчас на выставке несколько знамён.
— А-а, там несколько.
— Там несколько знамён, да. Варианты знамени Ермака, которые были изготовлены в разное время. Одно из них самое последнее, которое к нам прибыло из Тобольска, и на этой выставке оно было подарено музею. Изготовлено буквально месяц-два назад именно в Тобольске по заказу Аркадия Елфимова, тамошнего мецената, и он нам передал его на открытии этой выставки в фонды.
— Всё, теперь в Омске есть знамя Ермака.
— Ну есть, да, но в таком понимании, как… Оно вышитое знамя, оно таким не было, естественно, подлинник таким не был. Наибольшую ценность для нас представляет знамя, которое мы привезли из столицы донского казачества, из Новочеркасска. Чем оно для нас интересно — тем, что донцы, перед тем как его изготовить в начале века, приезжали сюда в Омск, смотрели на то знамя, которое тогда ещё хранилось в храме. И, вернувшись к себе на родину, вот на основании этого (зарисовки тут делали и так далее) они изготовили знамя, которому уже больше 100 лет.
— Самое приближенное.
— Оно на данный момент да, наиболее приближено, потому что оно делалось действительно по оригиналу. Люди смотрели на оригинал, который хранился в соборе. Вот оно им не досталось; была такая история, когда сибиряки соперничали с донцами, и дошло дело даже до императора. Император принял решение, что всё-таки оно должно находиться у нас в Омске и храниться здесь. У самого это знамени очень интересная судьба, поскольку оно как боевое знамя поучаствовало в Русско-японской войне. Оно было вручено одному из казачьих полков, и они поехали в Маньчжурию, на фронт, воевать, оно в боях участвовало. А после революции это знамя казаки увезли за границу, оно находилось в эмиграции в Чехословакии, и только в 1946 году после окончания войны оно вернулось в Советский Союз и вновь попало вот в этот музей. То есть оно ещё и через эмиграцию прошло. Для нас оно интересно и важно тем, что действительно вот то понимание на тот момент, на начало ХХ века, каким в воображении донских казаков было знамя Ермака, был оригинал. Они его себе таким понимали и изготовили. Они его сделали как знамя, которое должно было действительно в боевых действиях принимать участие, в виде прапора, длинное такое. У нас было квадратное знамя, немножко другое.
— Интересно, да.
— Куда подевалось наше знамя Ермака? У него тоже была очень такая трудная судьба. Оно было очень почитаемо среди казаков, и когда большевики пришли к власти, атаман Анненков посчитал, что вот этим казачьим святыням, которые хранятся в соборе, угрожает опасность. И он ещё в феврале 1918 года выкрал, по сути дела, это знамя из собора — это знамя и некоторые другие реликвии и увёз на территорию нынешнего Казахстана. Потом была долгая история. Казачий круг требовал вернуть знамя в собор после того, как советская власть пала, установилась сначала власть Временного Сибирского правительства, затем правительства Колчака и так далее. Казалось бы, что всё восстанавливается, и казаки потребовали вернуть это знамя. Его вернули. И на тот момент оно уже было в очень плачевном состоянии. К счастью, до нас дошли снимки, которые были изготовлены тогда, зафиксировали это знамя, его утраты, с двух сторон, вот эти фрагменты ткани булавками прикрепили к картону, сфотографировали, всё описали. То есть документ оформлен с печатями, с подписями, как положено. И вот это последние, по сути дела, такие серьёзные и достоверные упоминания этого знамени. А уже в 20-е годы, когда из храма передавались (там были другие знамёна, другие реликвии) в музей в 1924 году, все были знамёна, в том числе и очень известное знамя Ивана и Петра Алексеевича, ну, самая наша известная музейная реликвия — знамя 1690 года, это знамя молодого Петра Первого, оно (тоже) было передано. А этого знамени не было. Версий на этот счёт много. Кто-то считает, что, отступая из Омска, казаки забрали это знамя с собой. Может быть такое? Конечно, может быть. Тогда напрашивается вопрос, а почему другие знамёна не забрали?
— Ну да.
— Я думаю, при отступлении им не до этого было. Там надо было спасать себя, армию спасать, золотой запас спасать, правительство эвакуировать. В общем, я думаю, там было не до этого. Ну и, кстати, не было Анненкова, радетеля, уже тогда в Омске. Другая версия, что его где-то тогда в Омске припрятали, да так хорошо, что до сих пор найти не могут. Может быть, тоже может быть... Ну и так далее. Есть версия, и она обсуждается на вполне серьёзном уровне, что оно всё-таки попало в эмиграцию и где-то там в Китае его искали, и так далее. Но, вероятнее всего, оно просто физически, что называется, исчезло, поскольку утраты, и само состояние было очень и очень плохое. А времена-то были непростые, в том числе и в самом храме. Надо учитывать, что была национализация, и многие предметы церковного культа большевиками изымались. В общем, всё там было очень непросто, такое время… Какие-то надежды питать, что мы вдруг найдём где-то это знамя, практически не остаётся. Митрополит Омский и Прииртышский Дионисий, на мой взгляд, принял очень мудрое решение, его поддержал губернатор Омской области Виталий Павлович Хоценко, — воссоздать это знамя и поместить вот этот воссозданный образец также в киоте в то же место в отреставрированном Свято-Никольском казачьем соборе. Я думаю, это вполне оправданно. Ну а для того чтобы выполнить эту задачу, необходимо максимально, насколько это возможно, нам представлять, каким это знамя было. Конечно, мы сейчас восстановить его доподлинно таким, каким оно было, вряд ли сможем. Уже и ткани другие, и краски другие, и специалисты другие, всё по-другому. Но я думаю, нет такой задачи сделать его максимально таким, каким оно было. Важна сама идея и те смыслы, которые вкладывались, ведь и это знамя тоже… Тут разные версии. Вот я вам одну из версий сказал, что оно появилось в таком виде, с Димитрием Солунским, позже, в память об этом событии, а ведь можно предположить, что было реально одностороннее знамя с изображением Михаила Архангела, которое действительно в походе Ермака принимало участие, потом по истечении какого-то времени оно было утрачено, ну, предположительно, лет через сто. Искусствоведы склоняются к тому, что то изображение Михаила Архангела, которое здесь есть, оно относится не концу XVI века, когда был поход Ермака, а скорее к концу XVII века или, может, даже к началу XVIII века. И тогда появилось вот это, уже второе знамя, и тогда объясняется, почему появился Димитрий Солунский, и так далее. Но оно было всё равно предметом святым для казаков, они его воспринимали как знамя Ермака. Они не музейщики, они не реставраторы, они не подходят так — оригинал, не оригинал. Для них не это важно. Вот оно, знамя, оно ведь похоже на знамя.
— И оно возвращается на своё место.
— Да, и оно возвращается на своё место. Я думаю, что и это знамя, а оно очень долго и в основном использовалось даже как икона; я думаю, что и это знамя будет намолено и с почётом в этом храме храниться. Я думаю, что это совершенно правильное решение, к которому необходимо в конце концов прийти.
— Уже известно, когда будет возвращено знамя в собор?
— Здесь тоже я бы хотел подчеркнуть мудрость нашего митрополита, который не торопится с этим вопросом. И мне очень понравилась фраза, которая прозвучала на одном из совещаний в министерстве культуры, когда настоятель храма отец Владимир сказал, что вот у нас позиция такая, чтобы здесь по этому поводу высказались историки, краеведы, искусствоведы, ну все, кто так или иначе может быть причастен, и когда будут сняты все спорные вопросы, вот тогда мы его изготовим, тогда в миру мы его внесём в храм. На мой взгляд, это очень правильное, очень мудрое решение. Здесь какая-то спешка, какая-то погоня непонятно за чем, к какой-то дате совершенно неуместна. Я думаю, что так оно и должно произойти. И, в принципе, мы сейчас уже достаточно близки к тому, я считаю, что уже можно приступать к изготовлению этого знамени. Я знаю, что у нашей епархии есть на примете изготовители и те, кто будет заниматься этой работой. А мы со своей стороны можем высказать какие-то технические, скажем так, рекомендации, каким оно было. Не скажу, что прямо всё доподлинно стало известно, но очень многие вещи мы можем подсказать. По крайней мере, они будут научно обоснованны.
— Тема, которую мы уже затронули — икона Михаила Архангела. Где-то у вас на страничке видела, что реставрационный совет был.
— Александр Александрович Козьмин...
— Он доложил о том, что есть какие-то сенсационные находки по этой иконе.
— Это известный московский реставратор, он возглавляет реставрационную мастерскую в институте Сурикова, он специалист именно по реставрации икон. Мы с ним сотрудничаем уже на протяжении более тридцати лет, обращаемся к нему по разного повода вопросам. Я как раз уже дважды возил в Москву нашу икону на короткий срок, потому что она у нас тут тоже задействована и в выставочном процессе, да и вообще надолго оставлять сложно такой предмет. Они в такие мои короткие приезды успевали провести необходимые исследования. Чем интересна эта икона? Ну, во-первых, образ Михаила Архангела на этой иконе и на нашем знамени, которое было сфотографировано в 1919 году, очень похож. И есть предположение, что на знамени этот образ появился с этой иконы. То есть тот, кто изготавливал знамя, писал его, может быть, даже был один человек. Не знаю, здесь сложно сказать. Они очень похожи. Искусствоведы особо отмечают форму короны у Михаила Архангела. Такая так называемая княжеская корона появляется уже только в XVII веке, в XVIII. То есть это не тот период, ермаковский. Чем интересна эта икона? Вот я сказал о том, что то знамя было одновременно и иконой: в храме в киоте хранилось и так далее. А вот икона, наоборот, выполняла, в свою очередь, функцию в том числе и знамени. Не просто иконы, но и знамени. И есть такие предположения, что это походная икона, с ней воины Ермака шли в эти свои походы в Сибирь, несли её на себе, на теле — один из воинов, и она ими рассматривалась как оберег, ещё раз повторю, не только как икона, а и знамя, и долгое время его так и называли — знамя.
Эту икону Андрей Фёдорович Палашенков, тогдашний директор (ну, не директор ещё, а научный сотрудник), привёз из Берёзова к нам в Омск, в наш музей, а на следующий год Тобольский музей обращается к нам в музей: не могли бы вы нам дать подлинное знамя Ермака, которое у вас хранится? Надо понимать, что в то время Тобольск входил в состав Омской области. Это был даже подведомственный музей в какой-то степени Омску. И что, они не знали о том, что знамя исчезло в годы Гражданской войны? Вот это меня поначалу сильно удивило. А потом мы, как говорится, поняли, что речь идёт вот об этой иконе. Они его тоже называли знаменем, эту икону. Как походная икона она (действительно есть такая серьёзная версия и предположение) была с Ермаком.
Теперь о некоторых наших исследованиях. Когда мы исследовали само изображение — красочный слой и так далее, и по данным искусствоведов, и по данным моей последней поездки — там химики исследовали, они тоже могут датировать. Но очень вероятно, что это не тот первоначальный образ, который на этой иконе был. Потому что это тоже XVII, может быть, даже более поздний век. Причём вот Александр Александрович Козьмин уже буквально на вокзале, провожая меня, рассказал свои последние наблюдения: посмотрел под очень мощным микроскопом всю лицевую часть, трещины, и он везде увидел чёрный цвет. То есть это изображение написано на чём-то однородно-чёрном. Как это могло на деле происходить…
— Это даже не фон?
— Что-то наподобие фона или грунта. Просто соскабливали первоначальное изображение, вымывали, доска оставалась (доска хорошая), скорее всего, какой-то чёрной краской загрунтовали и потом уже нанесли это изображение. Это более позднее изображение. То есть оно не даёт нам возможности датировать эту икону и говорить о том, что вот эта икона была с Ермаком. Есть там ещё один датирующий очень важный элемент — это так называемые серебряные накладки на этой иконе. На них возлагали большие надежды, на то, что палеографы там прочитают и что-то подскажут, но тоже прочли тексты, посмотрели: написание букв и так далее, всё это свидетельствует ну не о XVI веке, а о немножко более позднем времени. Поэтому последний такой датирующий элемент, который может подтвердить версию о том, что икона была с Ермаком, это сама доска. И вот здесь дендрохронология нам нужна как исследование. Это очень серьёзное исследование, уже в Курчатовский институт мы обратились. Они, в принципе, готовы, если мы через министерство культуры такое обращение подготовим, если мы докажем высокую значимость этого проекта, бесплатно эти исследования провести, датировать эту икону.
— Саму доску, основание?
— Саму доску, да. Но, по предварительным данным, «старослужащие» нашего музея рассказывают, что якобы где-то в конце 60-х, ну, вот я посмотрел в Интернете, в 1970 году была всемирная выставка в Японии: якобы возили нашу икону в Японию, а до этого она была в Москве, и там её специалисты датировали как раз XVI веком. Уж я не знаю, как они тогда это делали, чем они…
— То есть уже какие-то исследования проводили?
— Ну ещё в Советском Союзе, да.
Ну а в чём ещё сенсационность некоторых наблюдений Александра Александровича — заключается это в том, что при очень тщательном осмотре (ведь она у нас 85 лет в музее хранится, мы такие вещи не выявляли) обратной стороны нашли там два ряда вертикальных гвоздиков, то есть что-то прибивали к этой иконе.
— Причём в два ряда.
— Да, в два ряда. По описаниям XIХ века, там ткань была — сукно. Опять же, гипотетически я говорю, если говорить о том, что эта икона была походной, вполне возможно, это были какие-то крепления, возможно, ремни, я не знаю, каким-то образом она крепилась на груди у человека. И в подтверждение этого говорит то, что там шпонки очень сильно срезаны, они не выступают, как обычно на иконах. Они чуть ли не заподлицо с самой доской. И они прямо отполированы вот этой тканью, этим сукном. Вполне возможно, что это действительно происходило от трения. То есть её использовали, это мы можем тогда говорить более-менее с уверенностью, именно как походную икону. Ну а известно, что в Сибири уже особых походов не было. Эта икона попала потом в Воскресенский собор в городе Берёзове. То есть если говорить о каких-то походах, то это, вероятнее всего, были походы Ермака. Это, как говорится, на уровне умозаключения. Поэтому, говоря об этой иконе, тут степень вероятности того, что этот предмет был свидетелем тех событий: битвы на Чувашском мысе. И вообще, что эта икона была рядом с Ермаком, очень вероятно.
— Ну это подтвердит теперь только Курчатовский институт? Теперь только от них ждём каких-то исследований.
— Да, кто-то из дальнейших исследователей. Ну, работа очень интересная, и (появились) те вещи, которые стали нам сейчас известны. Ведь мы очень многие заключения делали на основе той информации, которую нам передавали из поколения в поколение музейные сотрудники. Очень много было и легенд, и фантазий. Например, мы читаем — буквально сегодня я смотрел книгу по истории донского казачества — там идёт описание этого знамени, и автор пишет, что вот на одной стороне Димитрий Солунский, на другой Георгий Победоносец.
— Ах, вот так даже.
— Да. Конечно же, это был не Георгий Победоносец. То есть было очень много и ошибок, и домыслов, даже порой фантазий. Ну а сейчас по крайней мере для себя я многое открыл и понял, и мне теперь эти вещи очевидны.
— Выставку могут посмотреть все омичи и гости города, она действует.
— Да, выставка работает. Я должен вернуть это знамя в Новочеркасск в середине сентября, поэтому практически всё лето эта выставка будет работать.
— Что ещё можно посмотреть этим летом, в период массовых отпусков и каникул?
— В период массовых отпусков можно посмотреть нашу историческую экспозицию «Сибирский град Петров». Это экспозиция, которая была подготовлена к 300-летию города Омска. Мы её постоянно модернизируем, обновляем, актуализируем. Выставка очень интересная, редко какой региональный музей имеет вот такую полную, в хронологической последовательности, экспозицию. Я много езжу по стране и бываю в музеях. Фрагменты — да, либо одна какая-то проблема показывается, либо показываются отдельные исторические периоды, а так, чтобы от Ермака, как у нас, и до современности, таких экспозиций немного. У нас она есть. К сожалению, она…
— ...не вмещается?
— Да, очень и очень мала. Мы могли бы наполнить всё пространство музея именно этой исторической экспозицией. Но, к сожалению, не обладаем такими возможностями. С 1985 года, когда нам это здание построили, ни одного квадратного метра, к сожалению, в историческом музее не прибавилось.
— Это беда многих музеев.
— Ну, не многих. У нас это особая беда, потому что мы (я тоже провёл такие несложные расчёты и сравнил с другими музеями за Уралом) обладаем наименьшими площадями, к сожалению. А вот за это время фонд музея практически удвоился. Представляете, фонды удваиваются, площади остаются, экспозиции тоже не прибавляются. Поэтому нам очень сложно показать всё, что мы хотели бы. Но тем не менее эта экспозиция есть, и омичи могут с ней познакомиться.
Другая большая экспозиция, два зала, это этнографическая экспозиция. Тоже не в каждом региональном музее есть самостоятельная этнографическая экспозиция. У нас одна из неплохих. По оценке специалистов Российского этнографического музея, коллекция одна из лучших, скажем так, не буду скромничать, поскольку она собиралась достаточно долго, с середины XIХ века, ещё со времён Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества. Там представлены не только народы, которые населяют территорию Омской области, нынешние. Мы поэтому и назвали её «Этническая панорама Сибири»: там у нас и Алтай, там у нас и северные народы, даже дальневосточные народы есть, ну и так далее. Тоже очень интересная выставка, которая работает в полном режиме.
— Постоянно действующая?
— Постоянно действующая, да. Как я уже сказал, в других музеях этнография вкрапляется чаще всего в историческую экспозицию, появляются какие-то сюжеты. У нас: вот казахи, вот юрта у нас есть, которую нам, кстати, подарили казахи — аким Петропавловской области, вот славяне: русские, украинцы, белорусы, как они жили, их жилища, а вот у нас немецкий дом — как жили немецкие переселенцы, латыши, эстонцы и так далее. Северные народы — чум из шкур оленя, буквально вот привезли со стойбища и поставили чум из этих шкур.
Ну и самая последняя постоянная экспозиция, которую мы открыли, — экспозиция, посвящённая природе Омского Прииртышья. Свежая, на мой взгляд, интересная, дети её очень любят, посещают. На нижних этажах у нас есть зал археологии, зал палеонтологии, открывшийся тоже буквально недавно. Посетители тоже с большим интересом туда приходят и смотрят. Он дорабатывается, мы ещё будем его модернизировать, но это и сейчас очень интересное зрелище.
Ну и выставки. К сожалению, у нас тоже только один маленький выставочный зал. Мы могли бы этих выставок делать побольше. Самое главное, мы могли бы привозить выставки из других регионов. У нас очень хорошие контакты, я являюсь координатором секции краеведческих музеев Союза музеев России, поэтому общаюсь с очень многими краеведческими музеями. Вот мы были в Ростове, у них шикарная коллекция, которую можно было бы (привезти). Сейчас они, кстати, на ремонт закрываются…
— Могли бы сюда, в Омск, приехать.
— Могли бы, да, они говорят: нам бы куда-нибудь уехать. Потому что тоже где-то хранить (надо). Или тот же Новочеркасский музей. Я, признаюсь, не знал о том, что такой великолепный музей существует с такими фондами, ну просто обалденные фонды по истории донского казачества! Очень хороший музей. Много и других примеров.
У нас же зал маленький, 90 квадратных метров, мы свои небольшие выставки там делаем. В настоящий момент, на мой взгляд, идёт неплохая, интересная выставка «Музыка — язык мира». Мы говорим о музыке, мы говорим о музыкальных инструментах, о разного рода воспроизводящих приборах — радио, телевидение и так далее. Всё, что связано...
— ...всё, что звенит, звучит.
— Да, так или иначе связано с музыкой. На открытии выставки ведущая предложила выступить. Я как-то не готовился специально, и вдруг мне такая мысль пришла в голову, что это такой вот важный фактор нематериальной культуры, поскольку он связан напрямую с людьми. Люди могут не читать книги, могут не ходить в театр, могут не смотреть кино, ну, ещё какие-то достижения в области культуры им могут быть недоступны, а вот с музыкой мы сопряжены от рождения, от колыбели матери до (я привёл даже такой пример) похоронной процессии, когда человека в последний путь тоже под музыку провожают. На мой взгляд, это очень интересное и важное направление. Мы проанализировали, какие же музыкальные инструменты есть в наших фондах. Самые разные. И народные — самых разных народов.
— Рабочие музыкальные инструменты?
— Есть и рабочие. Вот, кстати сказать, на открытии выставки были два наших известных дирижёра — симфонического и камерного оркестров. И они выступили с такой идеей — давайте попробуем устроить акцию, оживить эти уже музейные экспонаты...
— Какая замечательная идея!
— ...и попробовать на них что-то сыграть. Мы на эту тему думаем с коллегами, и хотелось бы нам попробовать, может быть, даже летом реализовать. Эта выставка подсказала нам ещё один путь — что нам необходимо продолжать комплектование этой коллекции. Вот буквально из своей последней командировки — только что я вернулся из Москвы, из Рязани, куда по поводу иконы выезжал и на научном совете выступал, — я привёз два музыкальных инструмента, которые попали в коллекцию. Это губная гармошка, которой у нас не было никогда, причём губная гармошка, которая специально изготавливалась; интересна тем, что она двусторонняя. В 1940 году на Тульской фабрике такие гармошки начали производить для наших солдат.
— Ого!
— Вот мы чаще видели в кино, как там фашисты, солдаты вермахта на гармошке играли. Ну, тогда у нас не было ещё сложных отношений с Германией, более того, они были даже вполне дружелюбные. И тогда по аналогии решили наших солдат вот этими губными гармошками снабжать.
— Пусть тоже играют...
— ...чтобы в окопах было иногда не так грустно и печально.
— Как вам удалось её достать, где?
— Всё у антикваров можно найти.
И ещё один музыкальный инструмент, который у нас отсутствовал раньше. Это кларнет. Видно, что очень в своё время этот инструмент поработал, мундштук прямо, ну, знаете… видно, человек прямо усердно играл на кларнете… Но в хорошем состоянии.
— Ну, тут уже история. Кто, интересно, играл?
— Легенды нет, кто играл. Но сам по себе инструмент интересный.
И наша предстоящая экспедиция: мы планируем выехать по районам Омской области. Буквально уже на следующей неделе, такие планы есть, мы будем тоже искать в этом направлении музыкальные инструменты у наших коллег, может быть, где-то в музеях, может быть, во дворцах культуры.
— А может быть, и дома у кого-то есть.
— А может быть, и дома, да. Особенно народные инструменты. Я в своё время привозил цитру, изготовленную в домашних условиях. В Омской области мною была найдена. И некоторые другие инструменты. Так что я думаю, перспектива у этой коллекции очень хорошая. Вполне может быть, в перспективе в Омске появится и такой музей — музей музыкальных инструментов. Кстати сказать, о таком музее уже не первый год разговоры ведутся. И предыдущее руководство филармонии, и нынешнее уже заговаривало о том, что, может быть, есть возможность такая и необходимость.
— Совместный проект такой сделать.
— Я думаю, что есть такие реалии. Были бы площади — опять же вернусь к нашей проблеме — у музея, и мы могли бы такой филиал со временем создать.
— Может быть, найдётся что-то специальное для этого.
— Дай бог.
— Будем надеяться, ждать.
Я бы хотела ещё затронуть такую тему. Вы буквально в начале или середине мая были удостоены Национальной премии как хранитель музейного дела, как музейщик.
— Я стал финалистом Национальной премии. Это очень почётно — попасть даже в число финалистов. Семь финалистов. Я посмотрел — кто. Победителем там стала искусствовед, доктор искусствоведения. Ей 80 лет на сегодняшний день, она очень давно работает в Пушкинском музее. Это федеральный музей. Понятно, что нашим региональным музеям пробиться очень сложно. Кто побеждал, это были всё представители федеральных музеев. Поэтому попасть даже в число финалистов — это очень большая редкость и очень почётно. Хотя мне казалось, что я имел такие шансы, поскольку моя деятельность в последние годы направлена на только на изучение каких-то наших музейных коллекций, я занимаюсь историей и теорией нашего отечественного краеведения, что важно и востребовано на федеральном уровне, во всех наших музеях региональных, а их ровно половина. Вот если 3000 музеев всего в стране, то краеведческих 1500, даже больше, 1700. Кстати, вот на этой церемонии награждения (она проходила в Малом театре), об этом речь шла. Когда спросили у ведущего (он режиссёр театра), как вы думаете, как вам представляется музей, что это такое, он ответил: ну, вот картины висят по стенам и т. д. Вот в его представлении это художественный музей. И его поправили: да нет, художественных музеев всего лишь один процент. Если брать фонды, то эти фонды составляют всего-навсего один процент, а основная, большая часть — это фонды краеведческих музеев. Самые многочисленные и самые наполненные коллекциями музеи. Вот фонды нашего музея сопоставимы суммарно с фондами всех других наших музеев Омской области. Вот такой объём! И его где-то надо хранить, достойно изучать и представлять. Мы порядка от 3 до 5 процентов можем показывать. Всё остальное нет возможности показывать.
— Как вы считаете, как можно эту проблему решить?
— Единственным образом — увеличивать музейные площади. Других вариантов нет. Мы остались на уровне 80-х годов. Вот как дали это здание, на этом и остановились. Все другие учреждения культуры (я уже так прикидывал, а я 33 года работаю в сфере культуры), площади всех музеев так или иначе расширялись, прибавлялись и т. д. У нас, к сожалению, ничего подобного не происходило. Вроде производит впечатление здание, в центре города, большое, но на самом деле это не так, оно явно недостаточное. В других регионах, возьмите Казань, да: великолепные памятники архитектуры, памятники истории отдаются под музеи, музеефицируются. Я вот не знаю, стоит Кадетский корпус в центре города, и долгое время не знали, чем…
— Очень даже рядом.
— Совсем рядом. С хорошим таким входным порталом, всё доступно. Ну, я слышал, там есть уже какая-то идея — открыть школу ХХI, так она называется, совместно со Сбербанком, с Грефом, там что-то такое, но не на всех площадях. Поэтому это вполне могло бы быть. Или возьмите, скажем, генерал-губернаторский дворец. Это вообще наше здание, которое было музеем, и вот это современное здание — это пристройка, его строили как хранилище. Уже получил музей Врубеля и одно здание, и здание Эрмитажа, а это всё равно остаётся почему-то за ним, а нам не возвращается. А вот такой исторический комплекс в центре города и планировался быть единым, и сейчас всё идёт к тому, что это просто неизбежно. Я уверен, что это произойдёт, но вот хотелось бы всё-таки успеть ещё поработать в этом музейном комплексе. Хотя, конечно, одно здание генерал-губернаторского дворца, безусловно, не решит всех наших проблем. Наверняка есть какие-то другие здания и строения, необходимо желание и просто внимание к истории.
— Да, и можно реализовать.
— Нашему музею 150 лет через три года. 150 лет — очень серьёзная дата. Один из старейших музеев в России вообще и в Сибири. Я думаю, что есть всё необходимое, то есть мы считаемся одним из ведущих краеведческих музеев. Не случайно я возглавляю секцию краеведческих музеев в Союзе музеев России. Мы являемся центром научного совета. И здания у нас очень хорошие. Но вот эту проблему никак мы не можем решить — проблему с нашими площадями. Я очень благодарен губернатору и всем, кто был к этому причастен: территория вокруг музея, конечно, была так замечательно благоустроена, хоть нам сейчас это и доставляет хлопоты — там постоянно проводятся какие-то шумные мероприятия. Территория, которую правильно называть генерал-губернаторский сквер, но её немножко ошибочно (я думаю, что временно) называют сейчас городским садом. Городской сад был туда подальше к Концертному залу. Ну, мы по этому поводу уже свои предложения готовим, чтобы внести ясность. Ну, конечно, это всё оживилось. Раньше ведь это была, ну, простите меня, помойка в центре города — вот эта территория. Сейчас хорошо благоустроенная территория, которая привлекательна для молодёжи, для омичей вообще в целом. Напрашивается такая идея — идея генерал-губернаторского квартала между улицей Ленина и Карла Маркса и с другой стороны от улицы Короленко до самого генерал-губернаторского дворца, поскольку эта территория насыщена учреждениями культуры, ведь там и театры, и Концертный зал...
— Самый центр Омска.
— Да. И музейные здания, и памятники, и духовный центр.
— Филармония, тот же собор.
— Да, и духовный центр, здесь же Свято-Никольский собор. То есть это территория для исторического просвещения, для духовно-нравственного воспитания, патриотического воспитания. Я думаю, у этой территории заложен мощный такой потенциал, надо только им правильно распорядиться. Не превратить его в увеселительную площадку для диджеев и торговли беляшами, а — уличные концерты, уличные спектакли, рядом театр, рядом Концертный зал. Это могут быть экскурсии, музейные выставки, всё что угодно.
— Культурный комплекс.
— Да, культурный комплекс, такая новая культурная территория может быть. Я думаю, увеселительных мероприятий предостаточно в нашем городе, а это ядро, историческое ядро нашего города. Это музей под открытым небом, по сути дела, я его так воспринимаю.
— Согласна с вами.
— Там есть что ещё сделать, можно будет музеефицировать, можно какие-то поставить знаковые скульптуры, тех же генерал-губернаторов, о которых омичи практически ничего не знают, ещё какие-то объекты, и оно может постепенно превратиться вот в такой музей под открытым небом. Я думаю, для культурной столицы это был бы ну просто…
— ...подарок такой.
— Да, сногсшибательно. И серьёзно было бы. Не какую-то разовую акцию провести, концерт, салют стрельнуть или ещё что-нибудь один раз, а это делалось бы действительно на долгие времена, на долгие годы.
— Пётр Петрович, благодарю вас за беседу! Было очень интересно. Спасибо, что пришли к нам.
— Спасибо вам за внимание к нашей работе.
Полную версию видеоподкаста можно посмотреть здесь