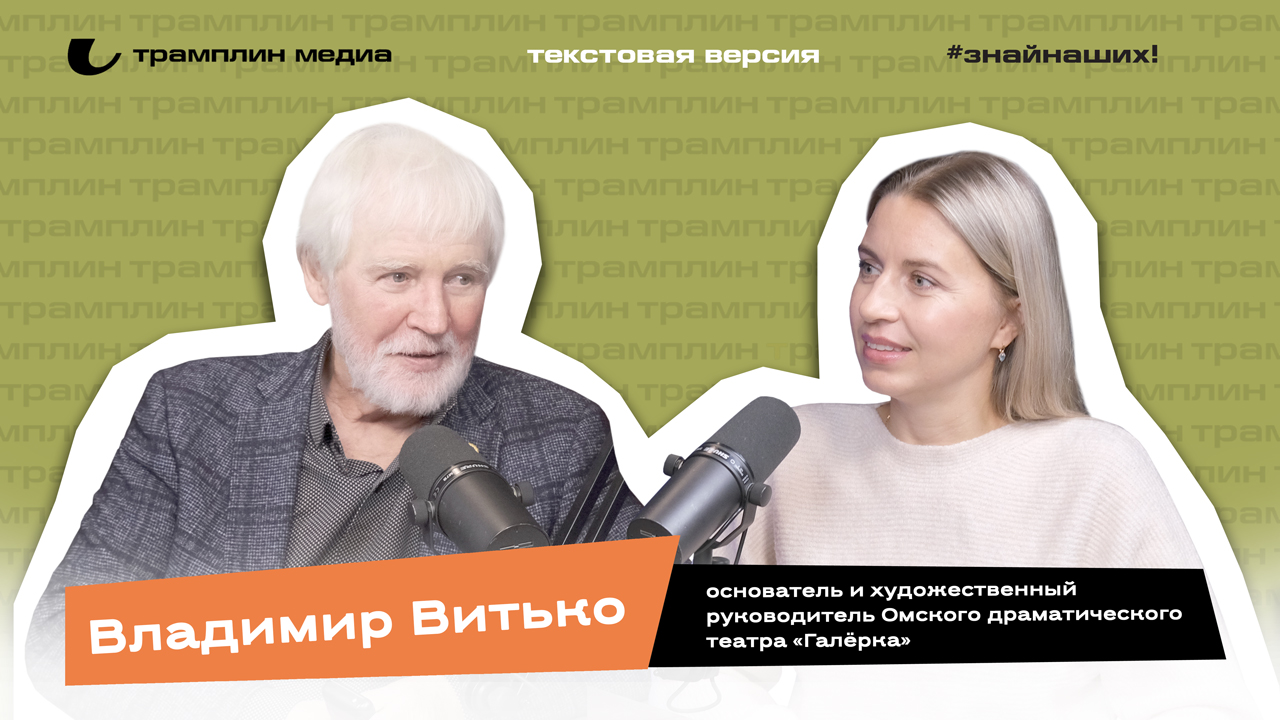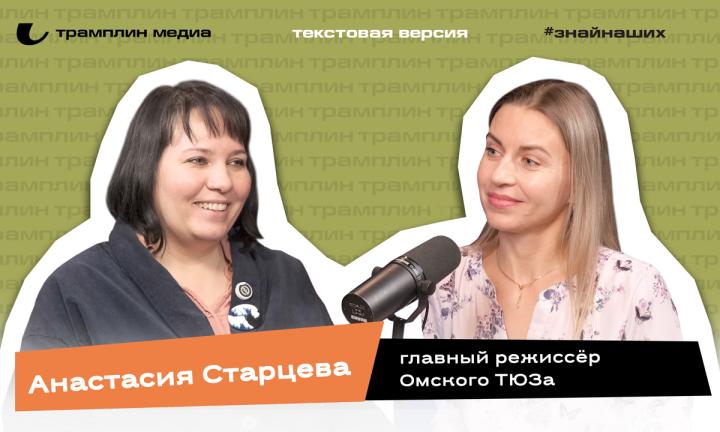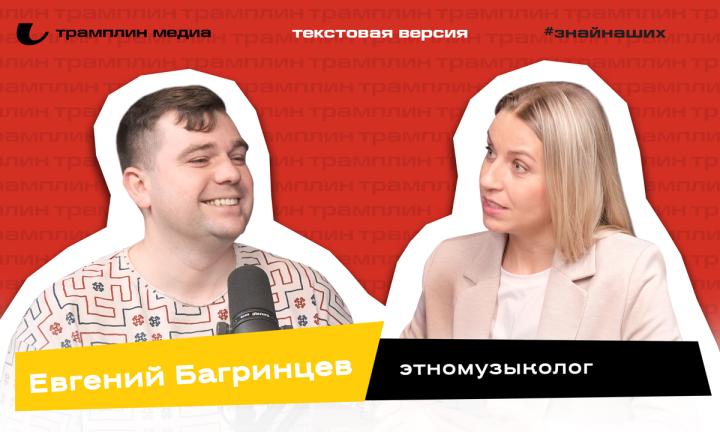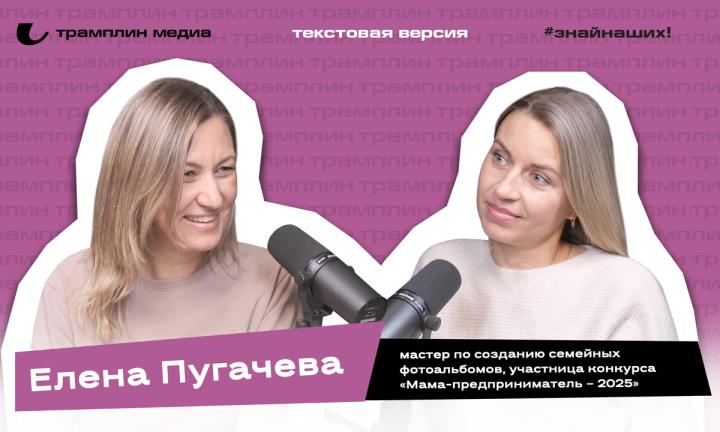Дата публикации: 22.11.2025
Для тех, кто любит читать, текстовая версия подкаста «Знай наших!» с основателем и художественным руководителем Омского драматического театра «Галёрка», заслуженным артистом России, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации Владимиром Витько.
— Владимир Фёдорович, здравствуйте! Этой осенью в «Галёрке» происходит очень много разных событий — целая череда. Давайте начнём с того, что театр признан лучшим региональным театром Российской Федерации.
— Это по версии «Пушкинской карты».
— А вот вы нам сейчас и расскажете, по чьей версии и за что наградили. Что это за премия?
— Знаете, «Пушкинская карта» — это как бич божий для всех театров, поскольку совсем маленькие театры не участвуют в этой программе: там с 14 до 22 лет. Поэтому нам всегда говорят: ребята, вот «Пушкинская карта», план! Чтоб 10 процентов зрителей было по «Пушкинской карте». Мы иногда выполняем, иногда не выполняем. Они там от каждого региона определяли лучший театр по программе «Пушкинская карта». Я долго ломал голову, а почему это вдруг мы-то? А потом до меня дошло: мы, скорее всего, единственный в области взрослый театр, у которого репертуар полностью, на 100 процентов соответствует программе «Пушкинская карта». И это правда. Я даже не знал, что существует такой оценочный ряд. И поэтому когда мне сказали, что надо ехать получать, я бросился искать — за что, почему — и вдруг это обнаружил.
Там было очень красиво. Это был Бетховенский зал Большого театра. И, как выяснилось, «Пушкинская карта» — это иногда даже престижно. Поэтому мы решили обращать ещё больше внимания на работу с «Пушкинской картой».
— Наверняка это тот срез, если можно так сказать, по которому можно определить, ходит ли молодёжь — вот эта активная часть публики.
— Если учесть, что мы в основном занимаемся классикой, ну, иногда и современным театром. У нас Чехов, Достоевский, Распутин, Есенин, Вампилов. Поэтому ребята к нам приходят. И молодые, и постарше. И это всё замечательно.
— Показатель заодно и уровня образованности нашей молодёжи, уровня её культуры.
— Да, это серьёзно. Мы даже не ждали, не гадали, и вдруг! У меня есть такая любимая поговорка: делай что должен, и будь что будет. Поэтому я как решил изначально, 35 лет назад, что это будет старый добрый русский театр, так и происходит — пошли плоды вот этого разумения, направления русского театра.
— А ещё второе событие — вы вошли в тройку лидеров по итогам голосования за премию зрительских симпатий. Что это за премия — «Звезда Театрала»? И голосование, надо сказать, продолжается. Мы можем голосовать до 30 ноября.
— Это вообще интересная штука. Бывая в Москве, я познакомился с главным редактором журнала «Театрал». Это всероссийский журнал, он в Москве, естественно. Он (директор) как-то побывал в нашем театре, удивился нашей архитектуре, нашей чистоте и состоянию нашего театра, зданию которого уже, слава богу, семь лет. Слушайте, говорит, как у вас идеально чисто. Да, говорю, у нас хирургическая чистота, у нас всё нормально в этом смысле. Потом он ещё посмотрел пару спектаклей и вообще восхитился. И говорит: вам надо участвовать. Я говорю: как скажешь, господин начальник. (Оба смеются.)
Когда проходит наш внутрирегиональный фестиваль на лучшую театральную работу по итогам года, там тоже есть такой раздел, по которому определяется лучший спектакль путём голосования зрителей. Это называется приз зрительских симпатий. Я это для себя называю «Ребята, наших бьют!» (Улыбаются.) В том смысле, что давайте все помогайте, помогайте!
— Как это и происходит.
— Так и происходит, да. И когда они открыли это дело и меня туда рекомендовали, я к этому никакого отношения не имел, поверьте мне. Кто-то где-то подхватил — и давай голосовать! В результате я попал в тройку лидеров. Вообще, я даже не думал не гадал. Там два московских товарища.
— Вот, кстати, кто они, ваши московские конкуренты?
— Один из них директор театра «Модерн», а вторая женщина директор театра «Эрмитаж», в который входит — их объединили — театр «Сфера». Я незнаком ни с тем, ни с другой, но знаете, я всё-таки считаю, что это не совсем объективно.
— Почему?
— При всем чувстве понимания, что за тебя люди голосуют, я считаю, что на сегодняшний день в России лучший директор театра — это всё-таки Крок.
— Вахтанговского, да.
— Потому что то, как он работает, как он организовывает свою деятельность, как у него всё это происходит, это просто чудо какое-то! У него четыре или пять площадок. Понятное дело, Москва — это другие деньги, и они зарабатывают миллионы в день, понимаете. Нехорошо считать чужие деньги, но коль сравнивать…
— Но есть куда стремиться нам.
— Есть куда стремиться, да. (Оба смеются.) Мы работаем, как мы работаем. И как у нас получается. Получается, на мой взгляд, неплохо. Потому что мы не ударяемся в «современный театр». Что есть театр? Во главе театра стоит человек, его личность, его душа человеческая. Ну, во всяком случае, в русском театре. Так издавна было. И поэтому мы себе не изменяем, поскольку раз старый добрый русский театр, то, значит, этому и надо следовать. А ничего другого я и не хочу придумывать, поскольку у нас замечательная русская драматургия, и не только русская, классическая. Плюс ещё русская литература. Мы поставили «Деньги для Марии» Распутина. Это же его повесть всё-таки. Да, он сам потом как-то инсценировал. Я, собственно, на неё не оглядывался, я другое придумывал, я шёл по повести. И Крупин Владимир Николаевич, которого мы играем, тоже наш современный русский писатель, он ещё живой, слава богу.
— А если вернуться к этому голосованию, вы говорите, не настолько это объективно. В случае победы как к этой победе относиться будете?
— С юмором.
— С юмором? (Смеются.)
— Конечно. Ну нельзя же всерьёз эти вещи воспринимать, мы же взрослые люди.
— Коль уже затронули имя Кирилла Крока, это идеал вот такого руководителя?
— Нет, он неидеален. Для меня он неидеален. А так он, конечно, потрясающий директор. Просто потрясающий. Он умница, он гений театра с точки зрения административного руководства театром. Он великий человек в этом смысле. И ещё мне в нём нравится вот эта его забота именно о театре.
— Да, это чувствуется.
— Не о себе в театре. Вот смотрите, у них, как и во всех театрах, был буфет, который арендовал — то есть посторонний ресторан арендовал у них место, они платили ему аренду. Его это не устроило.
— И они сделали свой буфет! Свою кухню!
— Да, свою кухню, свой буфет. У него там несколько человек работает, там штат официантов, снабженцы. То есть целое производство.
— Я считаю, равняться есть на кого.
— Есть, конечно! И знаете, рядом с ним как-то сразу понимаешь, что есть куда двигаться. Сообразно нашим условиям, естественно. Потому что у него возможностей больше.
— Ещё одно событие — это обменные гастроли с театром из Нижнего Новгорода.
— «Комедiя», да.
— Театр «Комедiя». Как прошли — мы все уже знаем. Прошли удачно, замечательно. Ваши впечатления и вообще ваши ощущения?
— Я начну немножко издалека.
— Давайте.
— Потому что дорогу туда, в этот театр, проложил наш сын Кирилл. Наш младший сын, который уже ушёл из жизни, в 41 год... Окончил ГИТИС и будучи талантливым, совершенно талантливым режиссёром — это я говорю без всяких сносок на то, что он мой родственник. Он действительно был очень талантливым… Так вот, он у них поставил два спектакля. Собственно, почему он туда и поехал летом 2017 года в отпуск. Потому что там ребята из разных театров объединились в один театральный молодёжный центр и пригласили его поставить «Гамлета». Он летом в отпуск поехал. Я ещё ему сказал: «Кирюша, ну ты бы отдохнул. Всё-таки отпуск». Он говорит: «Папа, да пока работается...». Ну и оттуда мы уже везли его в самолёте… Инфаркт…
И вот этот театр для меня был какой-то очень знаковый, поскольку там Кирилл поставил два спектакля. Я познакомился с директором этого театра. Мы с ним даже как-то в Москве встречались на всяких совещаниях, форумах и хорошо общались. Мы договорились, что когда-нибудь мы будем подавать заявку в Росконцерт, чтобы нам сделали обменные гастроли в рамках больших гастролей. И вот наконец произошло. Раньше то они куда-то с кем-то менялись, то мы — то есть не совпадали. А тут совпало: они к нам в начале октября, и мы к ним в начале октября. И мы уже открыли сезон, и они уже открыли сезон. Вы знаете, как-то здорово так случилось. Во-первых, я встретил ребят. Наши все улетели 8 октября, и мы должны были с ними лететь. Я говорю про Ирину Валентиновну, это жена моя и помощник художественного руководителя. Но мы специально остались до 10-го, чтобы встретить 9-го числа эту труппу. С ребятами, которые работали с Кириллом, мы поехали 9-го числа на кладбище. Там постояли у могилы... Приехали в театр, накрыли стол, немножко помянули. В общем, как-то это всё было душевно и по-человечески.
— Почти родственные отношения.
— Да, я об этом как раз и говорю.
Мы улетели туда 10 октября, а там уже в этот день был спектакль «За двумя зайцами». Они тут, в Омске, открывались спектаклем «Преступник поневоле». И у них, и у нас всё случилось! Зрители аплодировали стоя. Каждый вечер. Вот три вечера подряд они аплодировали стоя. Спектакль «Во всю ивановскую» я придумал из трёх повестей Владимира Николаевича Крупина. Одна повесть так и называется «Во всю ивановскую», вторая называется «Повесть о том, как...», а третья повесть называется «Прощай, Россия, встретимся в раю!».
— Ага!
— Вот такая повесть. Почитайте при случае. И я из этих трёх повестей сочинил спектакль. Там речь идёт о том, что происходит праздник на Ивана Купала. Это двойной праздник — он языческий, но он же и Иоанна Крестителя, Иоанна Предтечи. То есть он и православный. Поэтому всё там и смешно, и грустно, и мистически. Там есть мистика. Тракториста, который запахал кладбище за бутылку водки, земля не приняла, когда он умер: пьяный в лесу в тракторе замёрз. Когда полнолуние, он ходит по земле и ищет лопату, чтоб себя закопать. Какая-то такая штука происходит. Там много чего интересного. Я помню, две молодые женщины подошли (ещё в старом здании мы его играли) ко мне после спектакля и сказали: «Спасибо вам, мы сегодня вспомнили, что мы русские». Вот это дорогого стоит!
— Вот в чём миссия русского театра.
— Психологического театра.
— Психологического.
— Так вот в Нижнем первый спектакль на ура приняли. «За двумя зайцами» — там понятно. «Фрол Скабеев» — это святочные гулянья, меха, наши роскошные шубы. Это тоже комедия: мы же в театр «Комедiя» приехали! А вот «Во всю ивановскую» — это не просто комедия, там ещё вот эти странные вещи происходят. Я подумал: они, наверное, не понимают, что мы им такое привезли, потому что как-то странно воспринимают.
— Странные реакции были?
— Реакции не такие, как у нас дома. Там, где у нас аплодисменты или смех, они иногда просто хихикнут и всё. Ну и когда в финале — мы уже закончили, там такая мощь, идёт фонограмма «Ой ты, Волга, мать родная!», а они же на Волге живут. И вот, слушайте, они все встали…
— И плачут?
— Они там и плакали, и аплодировали. Это было настолько здорово, ну просто не поверите! Это хорошо, это классно.
— Своего рода катарсис происходил в этот момент.
— Да. Есть у нас люди, которые на спектакль «Сергей Есенин» приходят — вот сколько раз он идёт, столько и приходят. Потому что мы там не играем Есенина как исторический персонаж — это заведомо неблагодарное дело, ведь у каждого свой Есенин…
— Конечно!
— Не надо этого делать. А мы играем стихи есенинской поэзии. Там нет ни слова прозы, там есть только стихи, песни на его стихи, танцы, музыка, свет, действо. И получается такой котёл. Он так и называется: спектакль-концерт. Помню, известные две дамы, наши критики театральные, уважаемые и толковые, когда посмотрели первый раз спектакль, сказали: мы испытали катарсис впервые за многие годы. А в Москве мы играли его на «Золотом витязе», там в камерном театре подошла ко мне очень пожилая женщина и говорит: «Вот скажите, Владимир Фёдорович, в вашем спектакле играют молодые ребята. Это потрясающий спектакль. Я просто, что называется, ошалела. Но они-то как этим всем прониклись?! Как они всё это впитали, этот есенинский эмоциональный строй?» Я говорю: «Только на генном уровне». Она сказала: «Правильно. Я так и подумала». Она оказалась психологом по образованию.
— А что входит в это понятие — на генном уровне?
— На генном уровне — это когда объяснять ничего не надо. Когда всё понятно. Потому что это в крови. И тогда происходит потрясающая моментальная связь между тем, что происходит на сцене, и зрительным залом. И ничего не надо объяснять. Это своё, родное, понимаете.
— А все ли актёры могут с этой миссией справиться?
— Не все.
— Вы можете сразу увидеть это в человеке?
— Если в нём есть природа актёрская, то он справится, а если нет природы, он просто обученный, но нет актёрской природы, Бог не дал — тут ничего не поделаешь. Это как в музыке — человеку дано играть или не дано. Можно обучить и зайца на барабане стучать, а уж человека-то громко и чётко говорить текст тоже можно научить. Помню, я ещё в индустриально-педагогическом техникуме (теперь он колледж), там, в Привокзальном посёлке, 12 лет вёл агитбригаду. Мы делали с ребятами вечера, играли фрагменты спектаклей. Я помню, взял из вампиловского спектакля, и вот один парнишка играл у меня экспедитора. И вот боже мой, он жил в этом! Я говорю: «Коль, ты чего тут делаешь, в этом техникуме? Иди поступай, тебе Бог дал». Он говори: «Владимир Фёдорович, вот я сейчас закончу и тогда, может быть, попробую». Он закончил, я его потом встретил — а они же потом разлетелись, как птицы из гнезда, — и он говорит: «Да нет, Владимир Фёдорович, я женат, у меня ребёнок, я работаю на фабрике ПОШ (это на Третьем разъезде первичная обработка шерсти) инженером». Говорю: «Ну молодец...». Вот ему Бог дал.
— Есть такие таланты, или — как их назвать — самородки.
— Самородки, таланты — да. И вы знаете, их россыпь по России. Просто россыпь. Я вот сейчас поездил в качестве члена жюри «Золотой маски». Туда попал совершенно случайно, опять же Крок меня туда «назначил». Я поездил по стране, насмотрелся спектаклей. Вы знаете, сколько талантливых актёров! Боже мой! А актрис! Это просто не вышептать.
— Давайте вернёмся к «Галёрке». Хотела ещё спросить про нынешний сезон, который уже в разгаре. Какие постановки планируются в этом году, что-то, может быть, к Новому году уже готовите наверняка.
— Ой, ещё как готовим!
— Для всех возрастов.
— Понимаете, дело в том, что я не как художественный руководитель, а как продюсер, я бы сказал (я вообще не люблю это слово), как администратор, понимаю, что новогодний «сенокос» упускать нельзя, его просто надо косить (смеётся).
— А в 2026-м, говорят, там большие каникулы будут. 12 дней, что ли.
— Тем более. Во-первых, мы уже 7-й раз поедем в Сургут со спектаклем «Конёк-Горбунок». Мы будем играть в ДИ «Нефтяник» на 1150 мест. По сути, это современный европейский оперный театр. У них круг, кольцо, у них задник, экран мощный светодиодный, две кулисы, плунжерная система на сцене, то есть нажимаешь на кнопку — там вот это поднялось, то опустилось, куски сцены поднимаются, опускаются: всё это возможно. Если вам понадобилось круг и кольцо, они нажимают на кнопку, сцена приседает — и слева, если из зала смотреть, выезжает ещё одна сцена.
— Какой замечательный трансформер!
— Да. Это я видел в «Опера Бастий» в Париже. Примерно такое. Сургутнефтегаз может позволить себе построить такое здание. Что они и сделали. И вот мы каждый год выигрываем конкурс на то, чтобы сыграть у них очередной раз 45 сказок подряд. 15 дней по три сказки! Мы начинаем 20 декабря. Мы не играем только 31 и 1 января, заканчиваем 5-го, последний рабочий день, а дальше они отмечают Рождество и ничего не делают, гуляют. Потом мы на их деньги делаем этот спектакль, сказку, и везём туда и играем. А на следующий год мы эту же сказку играем у себя дома.
— Видите, действительно лучший директор и лучший руководитель может такое придумать. (Смеются оба.)
— И мы уже не тратим на этот спектакль деньги, понимаете. Мы в прошлом году играли там «Золушку» — сегодня мы играем «Золушку» дома. А туда везём «Конька-Горбунка». А я ещё придумал такое — тут появился один раскрученный зал напротив кинотеатра «Маяковский», бывший Дом политпросвета, а теперь это РЦСО. Знаете?
— Да. Красный Путь, 9.
— Там зал на 640 мест. Я там походил, посмотрел, мне понравилось. Правда, сцена оборудована не очень. Но мы-то за 13 лет бездомной жизни всякие сцены повидали.
— Вы адаптировались уже ко всем условиям.
— Мы стали такие бойцы, что мы приезжали и буквально за час — эти ставят свет, те декорации, одни уже репетируют, другие гладят. Через час мы играем, всё нормально! То есть жизнь научила…
— ...приспосабливаться?
— Нет, приспосабливаться, может, не то слово, а приспосабливать под себя — вот это другой разговор.
— Уникальный такой опыт для всего театра.
— Совершенно уникальный. 13 лет — это непросто. Никто уже не верил, что новое здание будет построено. Я один верил.
— Верить надо до конца.
— Верить надо до конца, я с вами совершенно согласен.
Так вот, посмотрел зал. В прошлом году у меня не получилось: поздновато подумал. А в этом году я буквально в конце зимы — начале весны позвонил туда и «забил» себе 12 дней: с 27 по 31 декабря включительно и со 2 января ещё 7 дней.
— А почему вы это место выбрали: переехали, так сказать, на эти дни в центр города.
— Мы не переезжаем, мы играем на трёх точках. Мы играем вы Сургуте, мы играем у себя дома, мы играем в РЦСО.
— Это так, чтобы поближе ко всему Омску?
— Там есть одна театральная касса, которая продаёт билеты. Кассир, который продаёт билеты, меня знает. Ну, меня все собаки знают (смеётся). Когда я вошёл туда вместе с директором (Илья Александрович Марков — хороший человек), кассир даже вышла из своей кабинки и спросила: «Владимир Фёдорович, вы играть будете у нас?» Я говорю: «Скорее всего, да». Она: «Ой, как хорошо, я буду билеты продавать, потому что многие спрашивают ваши билеты». Не все добираются до нашего Октябрьского округа, особенно с Левобережья и из Нефтяников.
— Театр «Галёрка» настолько любим Омском, что даже из Нефтяников люди едут, даже из районов, отовсюду.
— Да, едут. Но ближе ехать в РЦСО. Тем более что это детские каникулы. Может, у кого-то машины нету, понимаете, им туда удобнее.
И мы решили попробовать. Это будет первый раз. Обычно мы играем только в театре и в Сургуте. Уже восьмой год. А теперь ещё будет РЦСО. Посмотрим.
— Да, пробовать надо. А потом открыть филиал «Галёрки».
— Мы там будем играть «По щучьему велению», а вечером будет играться спектакль «Когда ангелы шутят». Это рождественская комедия, автор новосибирская драматургиня. Она очень раскрученная, в театральной библиотеке Сергея Ефимова (есть у нас такой известный человек в театральных кругах) на сайте от неё 65 пьес. Она очень плодовита, толковая драматург. Невероятная история, рождественская, волшебная, фантастическая. А тут, дома, мы будем играть, я уже сказал, «Золушку», а вечером — водевиль Ленского. Кстати, Ленский — актёр Малого театра, в своё время, ещё при Щепкине, был первым исполнителем роли Хлестакова. Как про него пишут его современники, актёром был средней руки, но юморист отчаянный, просто кавээнщик, говоря современным языком. И вот он писал водевили. В основном он переделывал французские водевили. Так вот, на французском языке пьеса называлась «Девушка на выданье, или Первое свидание», а у него она называлась «Хороша и дурна, и глупа и умна». Но нам как-то больше понравилось французское название. И мы…
— ...оставили?
— Да.
— Это уже для взрослых?
— Это вечерний спектакль, да. Там ещё для малой сцены ребята репетируют «Шутки» Чехова — «Предложение» и «Медведь». В общем, погуляем на Новый год.
— Плодотворно вы работаете! «Галёрке» исполняется 35 лет.
— 8 декабря.
— Как будете отмечать эту дату?
— По-рабочему. Особо праздновать ну просто некогда, понимаете. Да и — не хотелось бы говорить на эту тему — поскольку время-то у нас сейчас военное, то надо быть как-то немножечко поскромнее.
— Солидарными.
— Надо всё-таки как-то соответствовать. Я так считаю. Поэтому соберём собрание, наградим людей: есть чем наградить, всё уже приготовлено, потом чаю попьём и пойдём работать.
— Какие ещё проекты вас ждут в этом году?
— Закончится Новый год, ребята отдохнут — я даю им такую возможность пару недель оклематься, потому что совесть-то надо иметь администратору. (Смеются оба.)
Я начну репетировать «Прошлым летом в Чулимске». Это пьеса Вампилова, и у нас был этот спектакль: в 1998 году мы его выпустили, в 1999 году поехали в Иркутск на Вампиловский фестиваль и с ходу (у них тогда ещё были номинации) завоевали номинацию, приз «Лучший спектакль фестиваля». Это была очень такая удачная постановка. Может, даже слово «удачная» не подходит. Короче, они нам сказали: «Вы привезли нам нашего Вампилова». И это радовало. А потом у нас появились все пять пьес, все пять спектаклей по пьесам Вампилова: это было, пока мы не ушли в «бездомье». А теперь пора вернуть, но уже в новом качестве. Мы уже вернули «Прощание в июне», «Провинциальные анекдоты». Кстати, «Провинциальные анекдоты» поставил Валерий Иванович Алексеев, наш народный артист России. Он наш большой друг, и мы с ним сотрудничаем. Он современник Вампилова, он оканчивал Иркутское театральное училище. У него в общежитии ночевал иногда Саша Вампилов.
— Как тесен мир!
— Да. Они очень дружили. Он при жизни Вампилова сыграл Колесова в «Прощании в июне» там, в Иркутском театре. И он был первый исполнитель роли Сильвы в «Старшем сыне».
— Надо же!
— Я, говорит, когда репетировал, у меня было такое чувство, что я с ним общался, с Сашей. А Саша же был гениальный драматург, я считаю, потому что в нём сошлись бурятские ламы и православные священники. Поскольку у его матери в роду все мужчины были священниками, а у тятеньки в роду все были бурятские ламы. А то, что в нём заложено христианство, во всех его пьесах, это абсолютно точно!
Валерий Иванович Алексеев ставит у нас оба вечерних спектакля. И водевиль Ленского на нашу сцену, и в РЦСО спектакль «Когда ангелы шутят». Очень смешная история. Такая нетривиальная.
А потом, после «Прошлым летом в Чулимске», я хочу поставить «Свидание в предместье, или Старший сын». У нас он будет называться «Свидание в предместье». Первое название мне кажется более точным, потому что «Старший сын» — это один человек, какая-то конкретика, а «Свидание в предместье» — это вся Россия. Потому что предместье — это и село, и город — вот они на границе. Это название как-то богаче по смыслу. Так вот он согласился сыграть там Сарафанова.
— То есть мы ещё в таком амплуа его увидим.
— Он говорит: слушай, тут же надо характер придумать. Я говорю: тебе не надо ничего придумывать, ты сам себя играй, там всё есть. А Егор, внук мой, который поставил вот недавно и мы открыли этим сезон: «Тремя мушкетёрами» — билеты уже на ноябрь проданы, представляете!
— Касса не успевает открыться.
— Да-да. А там же ещё онлайн-продажи. Сразу сметают!
И вот он решил, что будет ставить пьесу Писемского. Был такой критик, драматург и журналист. Он написал пьесу, называется «Ипохондрик». Комедия, между прочим. Там человеку всё время кажется, что он болеет. Такой вот он мнительный человек. Там вокруг него всё происходит. Потом он уедет ставить в Норильск. Его пригласили поставить «Собачье сердце». Потом вернётся и будет ставить «Вас вызывает Таймыр». Это пьеса Галича. Помните такого?
— Помню.
— Это советская комедия положений.
— Надо посмотреть.
— Посмотрите. «Вас вызывает Таймыр». Там все всё друг другу перепоручают: «Так, вы остаётесь, мне позвонят, вы там ответьте, а мне надо сходить»… и так далее. Там же комната на пятерых, допустим. Это сейчас гостиницы на одного, на двоих. А тогда селили по пять, по шесть человек — не забалуешь.
— Насыщенная у вас и в семье, я так посмотрю, жизнь.
— Да. Ну вот говорят, семейный театр, иногда меня упрекают — вот у вас семейный театр. Боже сохрани, говорю. Вы что! У нас в театре работают 180 человек, и из них только четверо…
— ...моя семья.
— Да, только четверо. Да, мы семья, но в другом смысле. Вот театр, дом, дом, семья… Кстати, у нас очень много семей работает в актёрском составе. Рожают почти подряд всё время. Вот сейчас третьего решили рожать молодые наши ребята. Молодцы, что говорить!
— В чём успех театра «Галёрка»? Почему даже на галёрке города он никогда не бывает пустым?
— Я думаю, оттого, что он свой. Вот свой! Вы знаете, в своё время, в начале ХХ века, было то же самое, что и в начале этого века, — новые веяния, новый театр, Пушкина долой с корабля современности. Во всех сферах жизни… Любовь объявили вообще устаревшим понятием, ну, доходили до сумасшествия. И в театре происходило примерно то же самое. Когда Маяковскому (он написал две пьесы — «Клоп» и «Баня») актёр показал, как танцует танго со своей партнёршей, ну, фрагменты из спектакля, он сказал: «Замечательно, но то, как вы это сделали, как порядочный человек…»…
— ...теперь должны жениться на ней.
— Да, обязаны на ней жениться. То есть доходило до всего. И мат тот же был, всё было. Когда Анатолий Васильевич Луначарский насмотрелся всего этого безобразия, а это был первый нарком просвещения и культуры, то он возопил: назад к Островскому!
— Мы сейчас проходим тот же путь?
— Да, примерно всё то же самое. И этот мат на сцене, и вот это всё…
— Да не только на сцене.
— Увы, да.
Кстати, у нас в театре запрещено материться. Я сказал сразу: ребята, если любите это дело — ради бога, пожалуйста, но — вот Бог, вот порог: всё, до свидания! Сразу заявление на стол — и чтоб я вас не видел. И сразу как-то всё встало на свои места.
— Ваш монастырь — ваши уставы.
— Да. Я вам больше скажу. Мы когда прожили эти 13 лет, к концу 13-го года нас в театре осталось 70 человек из 100 с лишним. Остались только те, которые остались.
— Проверенными оказались.
— Да, и они до сих пор работают, все 70! Для меня, знаете, что такое театр? Если мужчина, образованный, трезвый, пришёл в театр, потому что его привела жена, и то, что он увидит вдруг на сцене, его как-то зацепит, заставит его сопереживать, вот тогда я понимаю, что мы добились своей цели. А сопереживать можно только тогда, когда находитесь на одной волне с залом и с тем, что происходит на сцене. Я не говорю про дешевые комедии, это особая статья.
Вот «Деньги для Марии». Я бы не сказал, что он особо продаваемый спектакль, но зал всегда полный, то есть мы заранее начинаем продавать, и в конце концов зал наполняется 100 процентов. Когда зрители смотрят этот спектакль по Распутину, там просто происходит вот это единение. Распутин видел этот спектакль дважды. И он сказал: вы у меня на особой полочке! Я же прилетел в Иркутск и договорился с директором Иркутской драмы, нам дали студию звукозаписи. Я заставил его несколько фрагментов текста записать как автору. Он возмущался: зачем, я же не актёр! Я говорю, если бы мне нужен был актёр, да я бы сам записал в конце концов. (Смеются.) Он начал как-то лениво, потом завёлся, говорит — давайте вот это перепишем. А потом в финале была последняя фраза, которую он говорит (это было у него там, в тексте): «До приезда ревизора оставалось меньше суток». И он записал, а потом говорит: нет, неправильно. Вычеркнул — ну это ж его текст, имеет право, и записал так: «До приезда ревизора оставалось несколько часов». И всё, и совсем ситуация поменялась, понимаете. «Меньше суток» — это одно, а «несколько часов» — это совсе-е-ем другое.
— Сердце «Галёрки» — это что?
— Я вам скажу. Это наша русская пьеса, это русская литература. Вот это сердце «Галёрки»! У нас идёт Чехов, у нас идёт Достоевский, у нас три спектакля по Достоевскому: «Братья Карамазовы», «Идиот» и «Преступление и наказание». Чехов: «Три сестры», «Чайка», вот сейчас Егор репетирует «Шутки» Чехова. Понимаете, мы живём этим. А Вампилов!
— Это да!
— Вампилов — это вообще! В нём и Чехов есть, и Гоголь, кстати, потому что у него столько мистики. Человек проходит, и два пьяницы кричат: — Эй, граждане, кто одолжит 100 рублей. Ну подурачились и забыли. Вдруг заходит человек и говорит: — Вы просили 100 рублей, вот вам 100 рублей. Ответ: — Слушай, чё тебе надо? Он: — Я не понял, вам надо 100 рублей? — Ну. — Так я вам даю 100 рублей. — Слушай, мужик, иди отсюда.
Вот понимаете… Он оставляет на столе 100 рублей. Они его догоняют, связывают и спрашивают: — Скажи, чего тебе от нас надо?
Вот это Гоголь! Это русский абсурд.
Я очень люблю пьесу Тургенева «Завтрак у предводителя». Несколько мужиков — ну, мужчины разного положения и возраста — не могут решить вопрос одной женщины. Там же один кричит: «Да вы не женщина вовсе…».
— Это тоже русский абсурд.
— (Смеётся.) Это русский абсурд! Они ничего с ней поделать не могут. Они с ума сходят, ну не бить же её.
У Горького есть пьеса «Дети», где тоже русский абсурд, где два купца с выпивкой, закуской приезжают на вокзал, причём друг друга опережая, поскольку каждый из них думал, что другой не догадается приехать на вокзал, с дипломатом, мужиком, который умеет разговаривать, и с дамой, девицей, которая может, так сказать, подмигнуть в нужный момент. Встречают старого генерала, чтобы купить у него в Сибири лес и создать сибирское лесопромышленное производство. А он приезжает с немцем. Они его соблазняют, этого генерала, напаивают его, предлагают ему тройку ехать в город (а вокзал в стороне от города). А потом они ему признаются: мы хотим купить у вас лес, чтобы создать сибирское лесопроизвдство. А он говорит: — А лес я уже продал. — Кому? — А вот ему. Немцу, который рядом с ним. Они говорят: — Да ну, слушай, нам самим надо ехать. И он куда-то делся в этим немцем. И вот сидят они, два купца. Не создали лесопромышленное производство. Один говорит: — Ну зови начальника станции, гулять будем! Не пропадать же добру.
— Слушайте, «Галёрка» — это про нас!
— Это всё про нас, да. (Оба смеются.) Поэтому наверняка и такой успех.
Я и говорю. Всё очень узнаваемо. Всё очень близко и рядом. Я вам больше скажу, что когда я учился на филфаке, а потом уже в ГИТИСе, это была вторая половина 60-х — начало 70-х. Как раз тогда открыли вот этот железный занавес. И просто хлынула волна западной литературы. Мы ночами упивались, мы читали и Хемингуэя, и Фицджеральда, и Генриха Бёлля, и Сэлинджера, и Апдайка, и Кафку, и Франсуазу Саган, и Ремарка, и всё-всё вот это. На ночь давали читать друг другу. Но в это же время поднялись и мощно заявили о себе и Распутин, и Астафьев, и Шукшин, и Василий Иванович Белов. То, что происходило с западной литературой, во всяком случае для меня, было безумно интересно, я поглощал это, я напитывался этим, я проникался этим. Но тут же рядом я читал Шукшина и Василия Ивановича Белова «Привычное дело». И я понимал, что это моё.
— Родное.
— Понимаете, всё равно это моё. А нам очень легко было репетировать Распутина. Почему? Там не надо было ничего придумывать. Он настолько точно, так же как и Шукшин, прописывает вот эти характеры, эту сцену; именно эту фразу должен сказать человек, и никакую другую, потому что психологически так всё «застроено». И нам легко это было репетировать. Тяжело в том смысле, что это работа, но легко…
— ...в образ войти.
— Там и входить-то не надо, потому что это же из нас взято и нами же выдано!
— Владимир Фёдорович, я хочу поблагодарить вас за то, что пришли к нам сегодня, и за то, что вы храните русский психологический театр. За то, что мы можем сами на себя прийти и посмотреть. Где-то посмеяться, где-то поплакать. Но это всё о нас.
— Милости просим, приходите!
— Спасибо!
Полную версию видеоподкаста можно посмотреть здесь: https://tramplin.media/news/18/7739