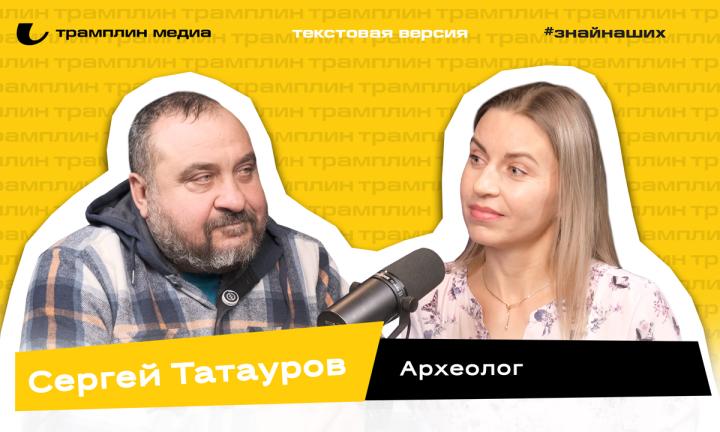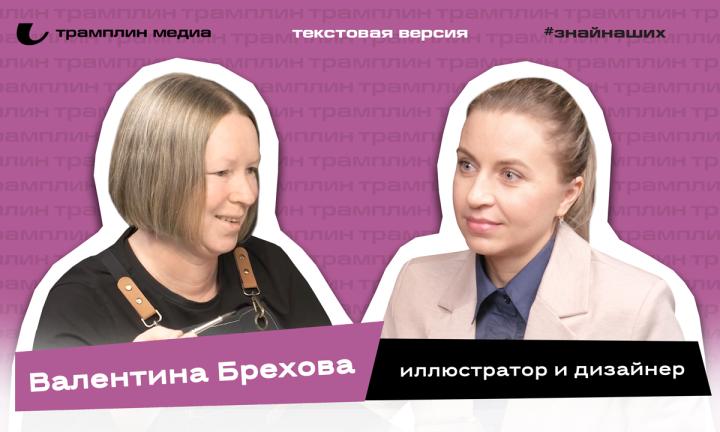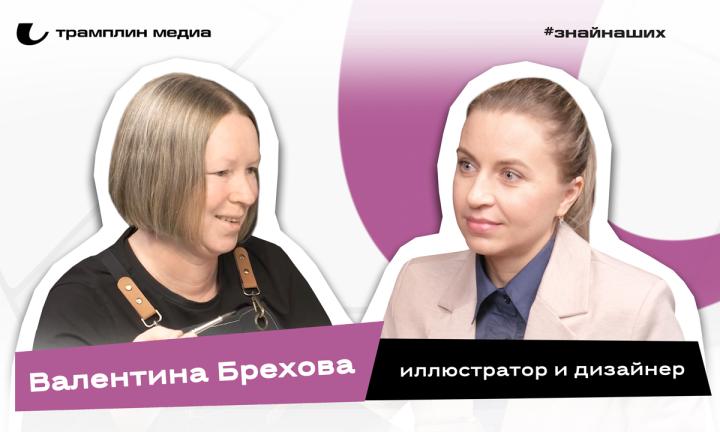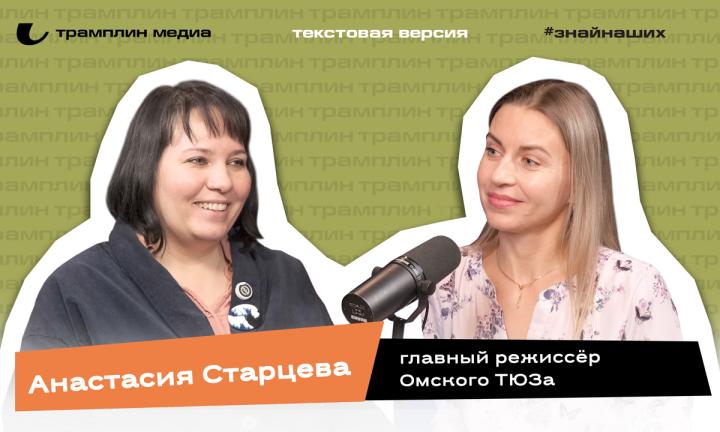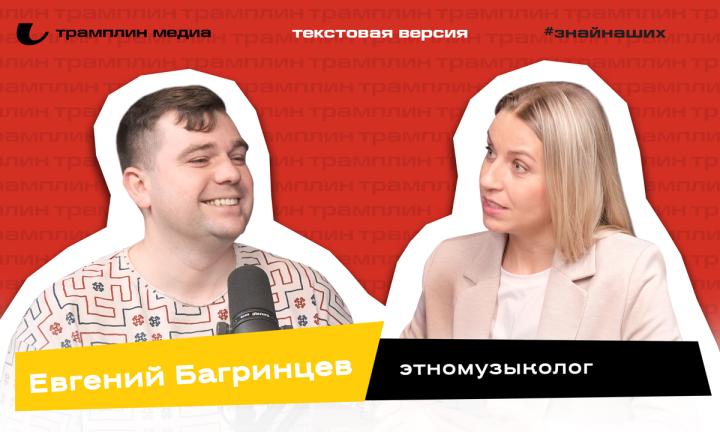Дата публикации: 15.11.2025
Для тех, кто любит читать, текстовая версия подкаста «Знай наших!» с художником декоративно-прикладного искусства Татьяной Колточихиной.
— Татьяна Увинальевна, здравствуйте. Вы работаете сразу в нескольких техниках. Вы делаете батик и эмаль. Расскажите поподробнее, как вы к этому пришли.
— Образование моё связано с текстилем: художественное оформление и моделирование изделий текстильной и лёгкой промышленности. Я окончила Московский технологический институт. По распределению оказалась в Омске. Батиком стала заниматься чисто из соображений, что скорость выше, чем у гобелена. Гобелен я тоже пробовала, но выполнение в материале очень трудоёмкий и долгий процесс. А в батике мы видим результаты: даже большую работу, когда ты подготовил эскиз, технический рисунок, в материале выполнить — два дня, максимум три — когда большой формат.
— То есть вам больше нравится работать на результат, а не сам процесс?
— Почему, процесс я тоже очень люблю. Настолько приятен сам процесс — провести кисточкой по шёлку. Результат меня тоже интересует — получится или нет работа. Потому что по-всякому бывает. Особенно на первых этапах мне приходилось делать пробники в натуральную величину, потом только чистовик. Постепенно нарабатывается мастерство, появляется опыт, в голове складывается композиция, и я понимаю, какой результат можно ожидать. В процессе работу же корректируешь, там могут быть отклонения — краска может себя вести так интересно. В общем, это в процессе работы уточнения, конечно же.
— Есть такое мнение, что батик — это такой практичный вид искусства, что даже если испортил полотно — его всё равно можно использовать. Вы согласны с этим?
— К технологии батика я отношусь очень серьёзно. И вот когда у меня проходят мастер-классы, я обязательно на первом же занятии объясняю техническую сторону — как краска соединяется с тканью, потому что красок много, они разные, и зависит от того, на какой краске ты пишешь. В общем, краска должна соответствовать. Тогда батик будет держаться очень долго, носиться до дырочки на ткани (улыбается). У меня есть такие примеры, когда я и сама платки занашивала, и у супруга кашне тоже. Понимаете, мне жалко, если это технически неграмотно: батик, к сожалению, выгорает очень быстро. А вот когда эта техническая сторона сделана правильно, служит просто до бесконечности. И тогда можно сделать панно, потом снять с рамы, сшить юбку, к примеру. (Обе смеются.) Такие уже тонкости.
— Такой универсальный вид искусства.
Я знаю, что вы используете несколько компонентов, не только краски. Там и парафин участвует, насколько я знаю. Правда?
— Это технология. Есть техника и есть технология. Вот в области техники два классических вида батика — горячий и холодный. Есть авторские техники. Очень часто художники делают находки в процессе работы. Ты запоминаешь, обращаешь на это внимание, и они становятся авторскими находками. Я отдаю предпочтение горячему батику, потому что он всё-таки теплее. Может быть, это для меня так, я его больше чувствую, больше понимаю, с ним мне легче. Но холодный батик тоже по-своему хорош.
— А чем они отличаются?
— Отличаются нанесением самого рисунка на ткань. Если горячий батик наносится поэтапно с помощью парафина, то холодный батик ты рисуешь специальной трубочкой резервирующим составом.
— Технологией и отличается.
— Да.
— А были такие случаи, когда вы действительно снимали панно и кроили себе юбку или платье?
— У меня много платьев. Я специально делаю, покупаю ткань, делаю вставки батика. Есть платье, которое я тоже изрядно носила, оно полностью расписано. Мне оно очень нравилось, потому что я чаще на шёлке делаю. Есть на хлопке, на льне, но чаще на шёлке. Шёлк — он просто невесом. На человеке просто невесом. Тело дышит, и в жаркую погоду незаменимая вещь.
— Есть ещё такое платье, не знаю, сохранилось оно у вас или нет, знаменитая работа вечернее платье «Ночной сад». Вы его делали под руководством Вячеслава Зайцева. Что это за платье?
— Сохранилось. Фрагмент сохранился пробный. Я тогда была новичок в батике, и прежде чем подступиться к работе с тканью, с моделью, мне нужно было технику, технологию полностью прогнать несколько раз. Потому что была очень высокая степень ответственности: конечно, диплом есть диплом.
— Как он руководил, может быть, что-то подсказывал? Какие советы давал?
— Ему некогда было сильно со студентами заниматься. Он мог подсказать в плане идеи, каких-то композиционных моментов, чтобы ошибок не было. А всё остальное мы сами, конечно. Это была очень короткая консультация. Он руководил. Художественный руководитель был экспериментальной лаборатории, и это было главное. А студенты на консультацию в течение часа-полутора, и всё, ты свободен. Ты можешь дальше продолжать работать. По-моему, сейчас принцип обучения такой в вузах: в общих чертах дают информацию, а ты, если заинтересован, сам найдёшь информацию, тем более что Интернет — это большая библиотека. Так же и тогда у нас было. Он не был в аудитории. Вот он проконсультировал и занялся своими проблемами и вопросами.
— Но вы гордитесь этим моментом?
— Это мне очень много дало. Слово «гордишься»… Ну, наверно, потому что это знакомство с таким очень большим художником. Но со мной работал ещё текстильщик.
— Ага! Потому что текстильное направление!
— Да-да. Потому что это был батик. Это техника и технология. Со мной работали конструкторы, которые потом делали модель. Затем технологи, которые отшивали модель. Там работала целая группа, чтобы результат был. Это очень правильно. Художники — это не швейники. Мы должны разбираться в этом процессе, но шить-то зачем, когда есть люди, которые значительно лучше тебя всё сделают. Художнику нужно придумать — технолог выполнит в материале.
— Что вы изображаете на своих картинах? Хочется поговорить о смыслах рисунков на батике.
— Наконец вы подошли к самому главному. Знаете, очень интересно и сложно идёт внутреннее формирование. После института воспитывался интерес к российской культуре, и я большой патриот в этом плане. Но когда мы с супругом приехали в Сибирь и обосновались в Омске, сама обстановка и культура Сибири оказала влияние, во всяком случае в моей жизни так произошло: выставки в краеведческих музеях, какие-то связанные с этническими культурами. Они, конечно, не были христианами, хотя я знаю, что в шорских домах у всех висит икона. Но они язычники, тяготеют к шаманизму, и у них там своя какая-то среда. Я была, и читала, и смотрела. И это для меня интересно. Кстати, интерес был вообще в целом к культуре Сибири, и художники-живописцы и графики тоже обращались к этим темам, к культуре народов, проживающих в Сибири. Были интересные выставки: «Мифы Сибири», «След» — большой проект, из многих выставок сделанный, в Новокузнецкой художественной галерее. В общем, было много. Невольно тут поддержка среды. Я не ПРОТИВ, а ВМЕСТЕ с остальными художниками. И так эта тема для меня стала главной на какой-то промежуток времени. Меня интересовало устройство мира (демонстрируется авторская работа) в представлении народов Сибири — вот эта многоступенчатость, нижние миры, средние, верхние миры. То есть мир состоит из многих ступеней. Кстати, в российской культуре — языческой — тоже это есть, может, не в такой степени, я не знаю. Меня интересовали народы Сибири. И вот эта многоступенчатость была интересна, и я её начала выполнять в работах. Обратила внимание одна искусствовед из Русского музея: она просто была у меня в мастерской и сказала: вот у вас работы с христианской тематикой, а я вижу здесь язычество. (Демонстрируется работа из этой серии.) Я говорю: «Даже не думала. Ангелы написаны, дома, лес…».
— Это она так заметила?
— Она говорит: «Я вижу язычество». Я спрашиваю: «В чем?» Она говорит: «В ступенчатости. У вас ступенчатость проявляется». И я стала обращать на это внимание и просто уже потом эту тему выстраивала как такие высокие многоэтажки. Вертикальных работ много, и они состоят из многих этажей: движение жизни. Так вот ожила эта тема. В рамках этой темы серия из трёх работ была отмечена на международной выставке в Москве первым местом. (Демонстрируются три работы из этой серии.) Потом я начала делать серию из четырёх работ тоже в рамках этой же темы (демонстрируется на экране).
— Это «Узел», да?
— Это композиция «Узел», да. А когда начала раскладывать на полу, я увидела, что их можно соединить, что они соединяются, только пятно в центре нужно сделать — и они вместе свяжутся. И они вот так неожиданно у меня связались. Тема там тоже: лодка с водой — движение по реке времени, потом есть лодка-человек, дом отдельно — в общем, вот такие сюжеты вместе связаны, и всё это под куполом неба, под куполом мира, солнца.
— Такая космическая связь между всем.
— Ну да, планета же в космосе находится, плавает (героиня улыбается) во вселенной.
— Эту тематику вы выдерживаете и сегодня?
— Не могу сказать, потому что я сейчас больше занимаюсь горячей эмалью, и у меня в горячей эмали больше людей стало появляться.
— Давайте поговорим про горячую эмаль. Это тоже очень интересно.
— Была такая ситуация: я сильно заболела. Чуть больше сорока мне было. И после того как выкарабкалась, ну, такая пауза наступила. И я подумала, что неплохо было бы в Дом творчества, батику посвящённый. Мне сказали, что в Ярославле есть, но они перестали группу батикистов собирать, а стали собирать группы эмальеров. Есть группы уже таких бывалых эмальеров, а есть — начинающих. Вот, мол, приезжайте к нам с группу начинающих. Вы знаете, я тогда была более решительной.
— Собрались в Ярославль махнуть?
— Да. У нас был председатель Союза художников Шакенов Амангельды Абдрахманович. Я обратилась к нему. Он меня поддержал. Союз — это же общественная организация, всегда без денег. И он нашёл возможность оплатить мне проезд. Потом я обратилась во все галереи Омска. Все галереи продали работы — одну, две, три, пять. Вот у кого сколько получилось, все продали. Вот так меня Омск поддержал очень хорошо! И тогда я получила первое знакомство с эмалью. Не помню уже, дней 20 была работа на симпозиуме. А когда я вернулась — у меня ничего нет: материалов нет, печки нет, металла нет.
— Зато много идей, наверное, было.
— Они просто перекочевали из батика в эмаль. (Демонстрируется работа.) И меня здесь уже поддержал супруг. Он сделал мне печь, тем более что он специалист по печкам. Мне просто повезло.
— Повезло, да. (Смеются обе.)
— По сталеплавильным печам он специалист — а уж маленькую-то печку он сделает. Сделал расчёт — какой толщины спираль, сколько витков, чтоб была определённая температура. В общем, он собрал небольшую печку, я ею до сих пор пользуюсь. (Демонстрируются работы в технике горячей эмали.)
— Сложнее работать, чем в технике батика?
— Вы знаете, когда есть опыт, тогда несложно. Но вообще сама сложность в том, что после обжига получается разный результат. Ты планируешь одно; чуть выше температура — и эмаль становится прозрачной. На какой-то температуре она такая глухая, и вдруг она становится — раз — прозрачной. Так интересно, очень интересно!
— То есть это всегда неизвестный результат? Ты не знаешь, что выйдет из печи.
— Нет, ну я уже предполагаю. Это же от опыта зависит. Я знаю, что у меня должно что-то получиться, ну не получится — я перекрашу. Ничего тут страшного нет. Перекрашу и опять обожгу.
— Вы когда-то сами поступали в художественную школу, где вас признали бесперспективной. Это так?
— Да. (Обе смеются.) Мне было неинтересно в художественной школе, крайне неинтересно. Может быть, так преподавали.
— Может быть, такие педагоги были.
— Вот я не помню, чтоб мне что-то там подсказывали, подходили, моей работой интересовались. То есть они поставят натюрморт и уйдут чай пить или ждут звонка, я не знаю. Я не помню общения с преподавателем в художественной школе.
— А что сделали ваши родители?
— Ой, они повздыхали. Помню, папа говорит: «Ты знаешь, у нас два института — педагогический и металлургический. Если пойдёшь в металлургический, хорошую партию составишь, а в педагогический…». Мама была педагогом — «не-не-не, не надо ребёнка в педагогический»...
— Это ведь было в Новокузнецке?
— Да. После этого папа сказал: давай поступать куда-нибудь. Перебрали — в Сибири училища были хорошие, но их было очень мало. И решили, что в хорошее художественное училище, которое сейчас, в наши времена, стало уже институтом, или в Москву в институт. Поступила в институт, правда, не с первой попытки. Очень трудно это было. Очень сильно отличается образование в столице и на периферии. Очень сильно! И общее образование — средняя школа, и специальное, конечно. У нас преподавали в художественной школе выпускники художественного училища, а в московских художественных школах — выпускники вузов. Понимаете, это другое образование.
— Конечно, колоссальная разница.
— Другое образование! Они там все были члены Союза, с детьми общались. Это совсем другое, конечно.
— Вы родились в Москве. Получается, и Москва, и Новокузнецк стали вашими двумя такими родными городами. А никогда не было сожаления, что вот — Омск, а не вернуться ли в Москву.
— Нет, нет. Никогда.
— Вы омичка?
— Да.
— В душе. (Обе смеются.)
— Вначале нам было тяжело с супругом, потому что мало было знакомых, какой-то дружеской поддержки. Потом постепенно стали появляться и знакомые, и друзья, и люди, которые симпатизируют и батику, и горячей эмали. И такая среда доброжелательная в Союзе художников сейчас стала.
— То есть всё способствовало тому, чтобы быть омичом.
— Тогда, в те года, не очень, потому что, знаете, присматривались к приезжим — как они будут себя проявлять. А здесь уже был сложившийся коллектив, люди после худграфа были, поэтому первые годы было тяжеловато. А потом… Я знаю, что в нашей среде люди доброжелательные. Очень важно быть вот именно в творческой среде. Вот есть люди — я уж не знаю, как у них получается — Дамир Муратов, например: он не в Союзе, но очень творческий человек и много работает. Не в организации, а сам по себе. А мне вот, например, важно, что рядом со мной за стенкой Настя Гурова или Игорь Санин. Мне вот это важно, что здесь ещё есть художники.
— Скажите, сегодня можно вас считать таким уникальным, может быть, единственным эмальером в Омске? Кто-то ещё работает в этой технике?
— Нет, у нас в этой технике работают ювелиры. Они делают только перегородчатую эмаль. Пока что я девушек, которые ко мне приходят заниматься батиком, немножко подталкиваю. С моей подачи они ездили в дома творчества: Наташа Желиостова, Евгения Неупокоева. Кутькина Виктория съездила — в Новокузнецке есть центр творчества. В Ярославль они как-то не решаются. Я-то училась в Ярославле. Но в Новокузнецке в Центре эмали я тоже была уже три раза. Они как только организовали, только посигналили — я сразу поехала туда.
— Ну, получается, что вы одна такая у нас.
Вы никогда не думали открыть в Омске подобный центр, как в Новокузнецке?
— Да ну, я не организатор, нет! Мне интересно самой делать.
— То есть просто мастер-класс и мастер-класс.
— Если бы кто-то открыл, я бы, может быть, и работала, а так, вы знаете, это же... Я как представлю, сколько бумаг нужно оформлять. Нет!
— На творчество времени уже точно не будет.
— Да и я не хочу этим заниматься. Мне неинтересно. Мне вот порисовать интересно...
— Серьги и брошь на вас — это всё тоже эмаль?
— Да.
— Какие-то работы есть, которые действительно, может быть, раскупаются, может быть, на выставках показываете?
— Вот горячая эмаль. Сейчас интерес к ней и в Омске, и в других городах. Вы знаете, есть такие выставки, где ограничено по техникам. Вот, допустим, Новосибирск приглашает на какую-то выставку, я условно говорю, — живопись и скульптура. Только живопись и только скульптура. И когда я подала заявку, они — раз! — и взяли горячую эмаль. И повесили. Я специально ездила посмотреть, где повесили. У них хорошо висело: на стене отдельно в зале, где скульптуры. Не с живописью, а в зале со скульптурами: металл — скульптура-то тоже из металла.
— Поэтому главное заявиться, наверное, а номинацию добавят.
— Они не стали добавлять, они меня просто включили, отнесли к металлу, очевидно. Скульптура из металла, и у меня на плоскости металл. Наверное, из этих соображений. Вот в Челябинске аналогично сделали. Тоже ограничили. Зал маленький в Челябинске, и они тоже ограничение сделали. Ну, я сейчас уже не помню, что это за выставка была. Вот есть какие-то ограничения. А с эмалью везде можно участвовать, да.
— В Омске где вы выставляетесь?
— У меня везде понемногу есть. В галерее на Тарской, в Союзе художников у меня есть эмали. Вы имеете в виду на продажу?
— Да, на продажу и эмаль, и батик.
— В выставках-то я практически во всех участвую. В наших омских, и в регионе когда объявляют выставку — я участвую.
— И батик тоже?
— С батиком сложнее. На продажу есть в галерее на Тарской.
— Почему сложнее?
— Вы знаете, был такой период — и в Омске тоже — когда люди, малознакомые с технологией, то есть с соединением краски с тканью, расписывали батики чуть ли не акварельными красками без закрепления. А в батике всё время нужно закрепление в результате.
— Какая-то кустарщина пошла?
— Да. Акриловых красок не было тогда. И мне кажется, тем, что батик вот так легко выгорал, нанесли большой урон самой технике батик.
— И популярность снизилась?
— Поэтому у меня просто ощущение, что люди после этого с большим сомнением покупают. Она, конечно, лёгкая техника, так же как графика. Она не будет (жить) столетиями, потому что ткань истлеет. Не рисунок, а ткань истлеет. А вообще батик мне очень нравится. У меня есть старые работы, которые на диплом делала, есть свежие работы, всё в рамках.
— Будем ждать и новых работ! И посмотреть, и поносить было бы что.
— Евгений Дорохов сейчас готовит проект, связанный с горами. Я там тоже участвую именно батиком. Не эмалью, а именно батиком.
— Скоро увидим?
— Да.
— Приглашаем всех! Спасибо вам за беседу!— Спасибо вам!Полную версию видеоподкаста можно посмотреть здесь: https://tramplin.media/news/18/7708